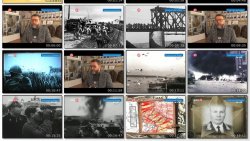Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
22:57 Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Новости / Мировые Новости
22:55 Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Новости / Мировые Новости
Поиск
11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Сочинение: Тема народных страданий в поэзии Н.А. Некрасова
В русской литературе XIX века нет, пожалуй, поэта, который бы так писал о народе, о его нуждах, страданиях, мечтах и надеждах, как Некрасов. Неизбывной печалью веет от стихотворения «Несжатая полоса». Скорбной музыкой звучат строки о больном пахаре, взвалившем на себя непосильный труд и приговоренном судьбой к смерти.
Народ, стонущий «у подъездов судов и палат» («Размышления у парадного подъезда»); строители железной дороги, устилающие своими костями, как шпалами, путь из Москвы в Петербург («Железная дорога»); бурлаки, чей «мерный похоронный крик» разносится по великой русской реке («На Волге»); забытая своими владельцами нищая деревня («Забытая деревня»); странник, поющий заунывную песню с постоянным рефреном: «Холодно, странничек, холодно, / Холодно, родименький, холодно! / Голодно, странничек, голодно, / Голодно, родименький, голодно!» («Коробейники»); Понуканье измученных кляч, Чуть живых, окровавленных, грязных, И детей раздирающий плач На руках у старух безобразных — Все сливается, стонет, гудет, Как-то глухо и грозно рокочет, Словно цепи куют на несчастный народ, Словно город обрушиться хочет... — («О погоде») эти и многие другие подобные картинки возникают на страницах произведений Некрасова.
С полным правом он мог сказать о своей поэзии:
С полным правом он мог сказать о своей поэзии:
Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.
[sms]
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.
[sms]
В «Железной дороге» Некрасова «родимая Русь» в последней строке первой части, конечно, не исчерпывает значительности произведения, но настраивает на значительность. Во вступлении же интонации и мотивы народной песни: Русь — родимая, а речка — студеная. Первая и вторая части некрасовского произведения внутренне едины. И та и другая поэтичны. Картина удивительного сна, который увидел Ваня, прежде всего поэтичная картина. Раскрепощающая условность — сон, который дает возможность увидеть многое, чего не увидишь в обычной жизни.
У Некрасова сон перестает быть просто условным мотивом. Сон в некрасовском стихотворении — поразительное явление, в котором смело и необычно совмещены реалистические образы со своеобразным поэтическим импрессионизмом. Что-то все время повествует рассказчик, что-то видит растревоженное детское воображение, и то, что Ваня увидел, гораздо больше того, что ему рассказывалось. Собеседник говорил о косточках, о тяжелой жизни людей, а они ожили, как в страшной романтической сказке, и пропели Ване свою страшную песню. И где был сон, где была явь — рассказ, не может понять разбуженный, опомнившийся мальчик:
«Видел, папаша, я сон удивительный, —
Ваня сказал, — тысяч пять мужиков,
Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и он мне сказал:
«Вот они — нашей дороги строители!..»
Сон разворачивается как баллада. Луна, мертвецы со скрежетом зубовным, их странная песня — характерные аксессуары балладной поэтики сгущены в первых строфах и усиливают ощущение сна. Наиболее явственно возмущение поэта их рабской пассивностью. Оно отчетливо слышится в его стихах о железной дороге, пафос которых заключается именно в этом возмущении. Смиренно и кротко поют замученные непосильным трудом люди:
Все претерпели мы, божий ратники,
Мирные дети труда!
Но Некрасов отнюдь не умиляется их покорностью, страдальчеством: самые мрачные картины его «Железной дороги» вовсе не те, где изображаются бедствия этих людей, а те, где поэт демонстрирует их терпеливость, их всегдашнюю готовность смиренно прощать своих врагов.
В первой части стихотворения была явь, во второй был сон, но было то, что их объединило. Была поэзия народного страдания и подвига, достойная высокой патетики: строители дороги — божий ратники, мирные дети труда, воззвавшие к жизни бесплодные дебри и обретшие гроб.
В третьей части снова явь. Свисток разрушил сон, генеральский хохот разрушил поэзию. Четырехстопный дактиль теряет целую стопу, а последняя из оставшихся усечена. Коротенькая эта строчка оказалась выделенной даже графически. Нарушилось, споткнулось само течение стиха.
После деликатного замечания: «Я говорю не для вас, а для Вани» — рассказчик отступает перед генеральским напором, и генерал бушует в одиночестве. Коварный автор дает ему полную свободу действий и не спешит вступить в спор. Генерал сам опровергает себя. Он обороняется и наступает в роли защитника эстетических ценностей. Тема, которая была намечена в начале стихотворения, потом как будто бы ушла и вдруг неожиданно и точно возникла вновь, уже обогащенная. Вообще все стихотворение основано на таких внутренних соответствиях, перекличках, соотнесениях, которые в гармонии и определяют подлинную льность произведения.
У генерала, конечно, есть положительная программа, сводящаяся к требованию воспеть жизнь, показать ее светлую сторону. Поэт идет навстречу пожеланию с готовностью. Стих последней строки генеральской речи в третьей части:
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону... —
заканчивается уже в первой строке четвертой части, в авторской речи:
Рад показать!
Предложение подхвачено буквально на лету.
Следует рассказ об ужасном труде людей. Явной иронии нет. Она лишь в начальном определении новой картины как светлой. Есть опять подчеркнуто объективный, почти сухой рассказ о том, что скрыто за занавесом конечного итога:
...труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках...
Внешний пафос рассказа растет, появляется бочка вина, звучат крики и, наконец, наступает апофеоз:
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал...
Самая светлая картина оказалась в произведении самой безобразной.
Тяжелые переживания, связанные с нищетой и бесправием народа рождают у поэта глубоко прочувствованное обращение к божеству:
Господь! Твори добро народу!
Благослови наградой труд,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд!
Чтобы благие начинанья
Могли свободно возрасти,
Разлей в народе жажду знанья
И к знанью укажи пути!
И от ярма порабощенья
Твоих избранников спаси,
Которым знамя просвещенья,
Господь! ты вверишь на Руси!..
(«Песни. Гимн»)
Возлагая надежды на «избранников», призванных сеять «разумное, доброе, вечное», Некрасов одновременно прославлял непокорность народа, звал его покончить с рабским терпением и даже временами воспевал
Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.
(«Песня Еремушке»)
Правда, на этом пути Некрасов испытывал колебания, разочарования, сомнения. Он казнил себя как поэта за свои действительные и мнимые недостатки и ошибки. В 1855 году, в тяжелом настроении, вызванном болезнью, он написал стихотворение «Замолкни, Муза мести и печали!»
Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча.
Уставший от страданий, он отказывал своей поэзии в гражданском значении, полагая, что он так и не научится любить:
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
Но, вопреки субъективному предсказанию Некрасова, последние две фразы стали поэтической формулой гражданской поэзии, выражающей ее общественные устремления. Да и сам Некрасов в 1856 году писал Л.Н. Толстому: «...когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, свою родину».
«С отвращением» кидая взор на разоряющееся родное помещичье гнездо, поэт вспоминал о жизни, в которой
...рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов.
Чувство злобы и ненависти, а не умиленья прошлым вызывают у поэта встающие в памяти картины:
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет...
(«Родина»)
Недаром свою музу Некрасов называл музой «мести и печали». И задачу поэзии он видел не в том, чтобы «ласкать ухо» толпе «миролюбивой лирой», а в том, чтобы обличать страсти и заблуждения толпы, чтобы, «питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой», проповедовать любовь «враждебным словом отрицанья».[/sms]
«Видел, папаша, я сон удивительный, —
Ваня сказал, — тысяч пять мужиков,
Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и он мне сказал:
«Вот они — нашей дороги строители!..»
Сон разворачивается как баллада. Луна, мертвецы со скрежетом зубовным, их странная песня — характерные аксессуары балладной поэтики сгущены в первых строфах и усиливают ощущение сна. Наиболее явственно возмущение поэта их рабской пассивностью. Оно отчетливо слышится в его стихах о железной дороге, пафос которых заключается именно в этом возмущении. Смиренно и кротко поют замученные непосильным трудом люди:
Все претерпели мы, божий ратники,
Мирные дети труда!
Но Некрасов отнюдь не умиляется их покорностью, страдальчеством: самые мрачные картины его «Железной дороги» вовсе не те, где изображаются бедствия этих людей, а те, где поэт демонстрирует их терпеливость, их всегдашнюю готовность смиренно прощать своих врагов.
В первой части стихотворения была явь, во второй был сон, но было то, что их объединило. Была поэзия народного страдания и подвига, достойная высокой патетики: строители дороги — божий ратники, мирные дети труда, воззвавшие к жизни бесплодные дебри и обретшие гроб.
В третьей части снова явь. Свисток разрушил сон, генеральский хохот разрушил поэзию. Четырехстопный дактиль теряет целую стопу, а последняя из оставшихся усечена. Коротенькая эта строчка оказалась выделенной даже графически. Нарушилось, споткнулось само течение стиха.
После деликатного замечания: «Я говорю не для вас, а для Вани» — рассказчик отступает перед генеральским напором, и генерал бушует в одиночестве. Коварный автор дает ему полную свободу действий и не спешит вступить в спор. Генерал сам опровергает себя. Он обороняется и наступает в роли защитника эстетических ценностей. Тема, которая была намечена в начале стихотворения, потом как будто бы ушла и вдруг неожиданно и точно возникла вновь, уже обогащенная. Вообще все стихотворение основано на таких внутренних соответствиях, перекличках, соотнесениях, которые в гармонии и определяют подлинную льность произведения.
У генерала, конечно, есть положительная программа, сводящаяся к требованию воспеть жизнь, показать ее светлую сторону. Поэт идет навстречу пожеланию с готовностью. Стих последней строки генеральской речи в третьей части:
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону... —
заканчивается уже в первой строке четвертой части, в авторской речи:
Рад показать!
Предложение подхвачено буквально на лету.
Следует рассказ об ужасном труде людей. Явной иронии нет. Она лишь в начальном определении новой картины как светлой. Есть опять подчеркнуто объективный, почти сухой рассказ о том, что скрыто за занавесом конечного итога:
...труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках...
Внешний пафос рассказа растет, появляется бочка вина, звучат крики и, наконец, наступает апофеоз:
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал...
Самая светлая картина оказалась в произведении самой безобразной.
Тяжелые переживания, связанные с нищетой и бесправием народа рождают у поэта глубоко прочувствованное обращение к божеству:
Господь! Твори добро народу!
Благослови наградой труд,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд!
Чтобы благие начинанья
Могли свободно возрасти,
Разлей в народе жажду знанья
И к знанью укажи пути!
И от ярма порабощенья
Твоих избранников спаси,
Которым знамя просвещенья,
Господь! ты вверишь на Руси!..
(«Песни. Гимн»)
Возлагая надежды на «избранников», призванных сеять «разумное, доброе, вечное», Некрасов одновременно прославлял непокорность народа, звал его покончить с рабским терпением и даже временами воспевал
Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.
(«Песня Еремушке»)
Правда, на этом пути Некрасов испытывал колебания, разочарования, сомнения. Он казнил себя как поэта за свои действительные и мнимые недостатки и ошибки. В 1855 году, в тяжелом настроении, вызванном болезнью, он написал стихотворение «Замолкни, Муза мести и печали!»
Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча.
Уставший от страданий, он отказывал своей поэзии в гражданском значении, полагая, что он так и не научится любить:
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
Но, вопреки субъективному предсказанию Некрасова, последние две фразы стали поэтической формулой гражданской поэзии, выражающей ее общественные устремления. Да и сам Некрасов в 1856 году писал Л.Н. Толстому: «...когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, свою родину».
«С отвращением» кидая взор на разоряющееся родное помещичье гнездо, поэт вспоминал о жизни, в которой
...рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов.
Чувство злобы и ненависти, а не умиленья прошлым вызывают у поэта встающие в памяти картины:
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет...
(«Родина»)
Недаром свою музу Некрасов называл музой «мести и печали». И задачу поэзии он видел не в том, чтобы «ласкать ухо» толпе «миролюбивой лирой», а в том, чтобы обличать страсти и заблуждения толпы, чтобы, «питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой», проповедовать любовь «враждебным словом отрицанья».[/sms]
28 ноя 2007, 14:21
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.