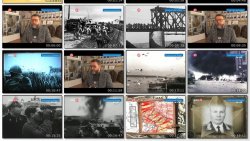Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
22:57 Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Новости / Мировые Новости
22:55 Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Новости / Мировые Новости
Поиск
11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Сочинение: Проблема человека и власти в прозе А.И. Солженицына
Среди современных писателей трудно найти еще одного, чья роль в духовном развитии человечества была бы столь велика, что и роль Солженицына. Для нескольких поколений он стал больше чем гениальным художником: образцом гражданского поведения, провозвестником истинной морали, великим правдолюбцем.
Прочитав «Один день Ивана Денисовича», Анна Ахматова сказала Солженицыну: «Знаете ли вы, что через месяц будете самым знаменитым человеком на земном шаре?» Предсказание Ахматовой сбылось. О Солженицыне заговорил весь мир. Его произведения — «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом» — становились вехой не только литературного процесса, но и духовного развития многих людей.
Когда Солженицын получил Нобелевскую премию, и страницы советской прессы заполнились злобными нападками на нового лауреата, из разных концов страны писатель начал получать поздравления. Это был не только его праздник — это был праздник всех дуковно свободных людей. Заключенные находившихся в Мордовии политических лагерей нашли возможность переслать ему письмо, выразив восхищение его «мужественным творчеством, возвеличивающим человечество, поднимающим к свету втоптанную в грязь человеческую душу и попранное кованым сапогом человеческое достоинство». Но все это было после публикации «Одного дня Ивана Денисовича».
Уже первая страница рассказа может вызвать разное читательское отношение к герою. Заботы, в которые Шухов погружен все эти «часа полтора времени своего, неказенного», Могут кому-то показаться мелочными, а сам герой — суетливым и излишне услужливым, существом ограниченным, находящимся в плену «шкурных» устремлений.
Конечно, лагернику все это необходимо для выживания: "где кому услужить, подмести или поднести что-нибудь", «подработать», обеспечивая себе кусок хлеба, не метафорический, а вполне конкретный. Возникает вопрос: не происходит ли в борьбе за выживание нравственного падения человека, не превращается ли он в животное, озабоченное лишь самосохранением? С одной стороны, лагерь требует жить по принципу «кто кого может, тот того и гложет». С другой стороны, лагерь чувствует грань между услужливостью, смирением, самозащитой — и лакейством, униженностью, подлостью: «В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать»; Шухов знает этот закон и подчиняется ему.
[sms]
Прочитав «Один день Ивана Денисовича», Анна Ахматова сказала Солженицыну: «Знаете ли вы, что через месяц будете самым знаменитым человеком на земном шаре?» Предсказание Ахматовой сбылось. О Солженицыне заговорил весь мир. Его произведения — «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом» — становились вехой не только литературного процесса, но и духовного развития многих людей.
Когда Солженицын получил Нобелевскую премию, и страницы советской прессы заполнились злобными нападками на нового лауреата, из разных концов страны писатель начал получать поздравления. Это был не только его праздник — это был праздник всех дуковно свободных людей. Заключенные находившихся в Мордовии политических лагерей нашли возможность переслать ему письмо, выразив восхищение его «мужественным творчеством, возвеличивающим человечество, поднимающим к свету втоптанную в грязь человеческую душу и попранное кованым сапогом человеческое достоинство». Но все это было после публикации «Одного дня Ивана Денисовича».
Уже первая страница рассказа может вызвать разное читательское отношение к герою. Заботы, в которые Шухов погружен все эти «часа полтора времени своего, неказенного», Могут кому-то показаться мелочными, а сам герой — суетливым и излишне услужливым, существом ограниченным, находящимся в плену «шкурных» устремлений.
Конечно, лагернику все это необходимо для выживания: "где кому услужить, подмести или поднести что-нибудь", «подработать», обеспечивая себе кусок хлеба, не метафорический, а вполне конкретный. Возникает вопрос: не происходит ли в борьбе за выживание нравственного падения человека, не превращается ли он в животное, озабоченное лишь самосохранением? С одной стороны, лагерь требует жить по принципу «кто кого может, тот того и гложет». С другой стороны, лагерь чувствует грань между услужливостью, смирением, самозащитой — и лакейством, униженностью, подлостью: «В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать»; Шухов знает этот закон и подчиняется ему.
[sms]
Сравним его с другими заключенными. Глаза Фетюкова «по-шакальи» говорят, лицо его «передергивается», выказывая животную неспособность владеть собой. «Засматривая» в рот Цезарю, он унижен и зависим, с другой стороны, его вымаливающий взгляд и слюнявое «да-айте» — это попытка давления на Цезаря; таков шакалий способ урвать кусок. Напротив, Шухов не роняет себя, «глядит мимо» и как будто равнодушно; он уважает не только себя, но и Цезаря, сосредоточенного на каких-то размышлениях.
Буйновский сам безупречно честен по отношению к закону и того же требует от других. Он и в лагере ожидает встретить «советских людей», живущих по нормам права. Маршак как-то в разговоре заметил, что кавторанг в этой сцене «еще чувствует на себе свои ордена».. Гнев кавторанга — во многом от инерции привычки, неумения изменить образ жизни, от упрямого нежелания считаться с законами реальной жизни («закон — он выворотной», как говорит Шухов, один — для лагерного начальства, другой — для зэков); за это Буйновский и наказан («десять суток строгого»). Протест Буйновского, безрезультатный и неуместный, нелеп и даже смешон.
Буйновский сам безупречно честен по отношению к закону и того же требует от других. Он и в лагере ожидает встретить «советских людей», живущих по нормам права. Маршак как-то в разговоре заметил, что кавторанг в этой сцене «еще чувствует на себе свои ордена».. Гнев кавторанга — во многом от инерции привычки, неумения изменить образ жизни, от упрямого нежелания считаться с законами реальной жизни («закон — он выворотной», как говорит Шухов, один — для лагерного начальства, другой — для зэков); за это Буйновский и наказан («десять суток строгого»). Протест Буйновского, безрезультатный и неуместный, нелеп и даже смешон.
Известно, что в первоначальной редакции рассказа Буйновский был фигурой «комической», только по настоянию редакторов, защищавших тип «интеллигента», автор вносит изменения в этот образ. И все-таки ощущение комичности осталось: кавторанг так же слеп, как и Дон Кихот, которому Белинский когда-то отказал в «такте действительности». Этим «тактом действительности» вполне обладает крестьянин Шухов, его достоинство более гибко, жизнеспособно, чем честь несгибаемого и прямолинейного кавторанга.
Отношение же автора к героям рассказа, как мы уже видели, зависит от того, могут ли они сочетать человеческое достоинство с умением выжить. Неожиданно для себя читатель обнаруживает, что образы кавторанга и Фетюкова в чем-то похожи: оба героя скорее всего обречены, один в силу своей бесхребетности, в силу того, что «не умеет себя поставить», другой — напротив, из-за негибкости, не случайно Буйновский напоминает Шухову исправно тянущего лямку мерина: не беречь его — «подрежется он живо». В рассказе, впрочем, намечен и другой вариант судьбы кавторанга, есть у него и такой шанс — превратиться в «малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».
Отношение же автора к героям рассказа, как мы уже видели, зависит от того, могут ли они сочетать человеческое достоинство с умением выжить. Неожиданно для себя читатель обнаруживает, что образы кавторанга и Фетюкова в чем-то похожи: оба героя скорее всего обречены, один в силу своей бесхребетности, в силу того, что «не умеет себя поставить», другой — напротив, из-за негибкости, не случайно Буйновский напоминает Шухову исправно тянущего лямку мерина: не беречь его — «подрежется он живо». В рассказе, впрочем, намечен и другой вариант судьбы кавторанга, есть у него и такой шанс — превратиться в «малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».
Как говорил Солженицын в редакции «Нового мира», это единственная возможность выжить в лагере: «Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства, — погибнет. Я сам только тем и спасся». Но для кавторанга это означало бы коренное изменение, если не утрату, личности, для «властного звонкого морского офицера» тайой поворот маловероятен: людей такого склада легче сломать, чем согнуть.
Пожалуй, особенно ярко характер Шухова проявляется в работе на ТЭЦ. Шухов любуется хорошо сделанной работой, радуется, удовлетворенный своим мастерством, в нем укрепляется ощущение собственной значительности. Особенности отношения Шухова к труду яснее в сравнении. Кавторанг, например, на ТЭЦ «с ног уж валится», а «тянет», он старается, как бы исполняя приказ. Шухов же выходит за границы приказа, не может остаться лишь исполнителем. Примерно этим же он отличается и от латыша Кильдигса: не может в Работе быть ремесленником, увлекается и трудится с азартом, с наслаждением. Кроме того, в Шухове постоянно чувствуется добросовестный крестьянин, бережливый хозяин: он Одерживается на работе дольше всех, жалея оставшийся Раствор: не используешь — замерзнет.
Еще один эпизод — размышления Шухова над письмом жены о «красилях». Соблазн «легких денег» велик, но не по душе они герою Солженицына, не дают они ни настоящей радости, ни гордости за себя: Шухов хочет чувствовать, что свои деньги он заработал. Несколько сложнее обстоит дело с Цезарем Марковичем. Понять смысл этого образа, сопоставить героя с Шуховым тем важнее, что Солженицын поднимает здесь тему «народ и интеллигенция», столь существенную для русской классики XIX века.
Пожалуй, особенно ярко характер Шухова проявляется в работе на ТЭЦ. Шухов любуется хорошо сделанной работой, радуется, удовлетворенный своим мастерством, в нем укрепляется ощущение собственной значительности. Особенности отношения Шухова к труду яснее в сравнении. Кавторанг, например, на ТЭЦ «с ног уж валится», а «тянет», он старается, как бы исполняя приказ. Шухов же выходит за границы приказа, не может остаться лишь исполнителем. Примерно этим же он отличается и от латыша Кильдигса: не может в Работе быть ремесленником, увлекается и трудится с азартом, с наслаждением. Кроме того, в Шухове постоянно чувствуется добросовестный крестьянин, бережливый хозяин: он Одерживается на работе дольше всех, жалея оставшийся Раствор: не используешь — замерзнет.
Еще один эпизод — размышления Шухова над письмом жены о «красилях». Соблазн «легких денег» велик, но не по душе они герою Солженицына, не дают они ни настоящей радости, ни гордости за себя: Шухов хочет чувствовать, что свои деньги он заработал. Несколько сложнее обстоит дело с Цезарем Марковичем. Понять смысл этого образа, сопоставить героя с Шуховым тем важнее, что Солженицын поднимает здесь тему «народ и интеллигенция», столь существенную для русской классики XIX века.
Шухов приносит обед Цезарю в контору. Шухова обижает барское равнодушие Цезаря, который берет миску не глядя, «будто каша сама приехала по воздуху». Х-123 с жаром требует в искусстве «хлеба насущного», но, замечает Шухов, «кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок», то есть Х-123 не чувствует вкуса и, стало быть, не знает цены реального, не абстрактного хлеба. Ест сам главный герой медленно, «внимчиво». Так образы спорщиков-интеллектуалов снижаются, с этой оценкой в полном соответствии одна из последних сцен: лишь благодаря сообразительности, хозяйственной оборотистости Ивана Денисовича Цезарь не лишился посылки.
Писатель выстраивает иерархию героев. В самом низу — «фитили» и «шакалы», не способные выжить в лагере, они скатываются, как правило, ниже человеческого уровня. «Придурки» входят в лагерную верхушку, живя, по сути, за счет простых «работяг». Но настоящими героями лагерной массы, основой ее являются люди типа Шухова. Критики упрекали автора рассказа за то, что он якобы противопоставил интеллигентов простому народу.
Писатель выстраивает иерархию героев. В самом низу — «фитили» и «шакалы», не способные выжить в лагере, они скатываются, как правило, ниже человеческого уровня. «Придурки» входят в лагерную верхушку, живя, по сути, за счет простых «работяг». Но настоящими героями лагерной массы, основой ее являются люди типа Шухова. Критики упрекали автора рассказа за то, что он якобы противопоставил интеллигентов простому народу.
Но, по сути, в лице Цезаря Марковича, а также Х-123 Солженицын изображает «интеллигентов» советской формации, тех, что привыкли пользоваться привилегиями за счет других и смотреть на этих других свысока (к ним принадлежат, собственно, и Фетюков, который был до лагеря крупным начальником, и строительный десятник Дэр, работавший в министерстве). Это тот слой, который Солженицын позднее заклеймит под именем «образованщины», вновь возникшая каста советского общества. По словам Шухова, они «друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их — все равно как латышей и румын».
В дальнейшем для эволюции Солженицына окажется значимо и то, что в «Одном дне Ивана Денисовича» пока на втором плане. А именно — идеал духовной свободы (старик 10-81) и христианская нравственность (баптист Алешка; знаменательны слова Шухова о нем: «Кабы все на свете такие были, и Шухов бы был такой», то есть помогал бы любому безотказно. Иван Денисович применяется к обстоятельствам, а люди типа Алешки задают тот уровень, на который мог бы ориентироваться и Шухов, будь обстоятельства другими, — так по Солженицыну). Так в новых условиях возрождается и развивается комплекс идей, завещанных русской классикой.
В этом Солженицын разошелся с редакцией «Нового мира» 60-х годов. «Новомирцы» прочитывали рассказ как изображение «лагеря глазами мужика», как изобличение сталинщины — извращения социалистической идеологии («Так было — так не будет»), Солженицын же выходил за пределы этой идеологии.
Чем же выделяется проза Солженицына? Прежде всего — экспрессивной авторской речью, основанной на сказовой традиции. Солженицын словно пренебрегает привычными правилами. Конечно, язык его произведений развивался и изменялся вместе с автором, от романа к роману, но есть у него важная основа: непринужденная, свободно обращающаяся прямо к читателю речь, с вольным, как в разговоре, порядком слов и синтаксисом, свежесть и искренность интонаций и даже некоторая напевность и льность фразы. «Обогащение языка у Солженицына достигается введением мало-Употребительных народных слов (и даже диалектизмов), полузабытых архаических выражений, новых «советизмов», а т&кже собственных новообразований», — замечал критик Юрий Мальцев.
Обрушиваясь на официальный советский язык, превративший омертвевшие формулы и шаблоны в средство общения, Солженицын пронизывает свой рассказ живыми голосами своих современников. Солженицын не просто сказал правду, он создал язык, в котором нуждалось время, и произошла переориентация всей литературы, воспользовавшейся этим языком.
Покидая родину, Солженицын оставил соотечественникам свое завещание — статью «Жить не по лжи». В ней есть такие строки: «Насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи!»[/sms]
В дальнейшем для эволюции Солженицына окажется значимо и то, что в «Одном дне Ивана Денисовича» пока на втором плане. А именно — идеал духовной свободы (старик 10-81) и христианская нравственность (баптист Алешка; знаменательны слова Шухова о нем: «Кабы все на свете такие были, и Шухов бы был такой», то есть помогал бы любому безотказно. Иван Денисович применяется к обстоятельствам, а люди типа Алешки задают тот уровень, на который мог бы ориентироваться и Шухов, будь обстоятельства другими, — так по Солженицыну). Так в новых условиях возрождается и развивается комплекс идей, завещанных русской классикой.
В этом Солженицын разошелся с редакцией «Нового мира» 60-х годов. «Новомирцы» прочитывали рассказ как изображение «лагеря глазами мужика», как изобличение сталинщины — извращения социалистической идеологии («Так было — так не будет»), Солженицын же выходил за пределы этой идеологии.
Чем же выделяется проза Солженицына? Прежде всего — экспрессивной авторской речью, основанной на сказовой традиции. Солженицын словно пренебрегает привычными правилами. Конечно, язык его произведений развивался и изменялся вместе с автором, от романа к роману, но есть у него важная основа: непринужденная, свободно обращающаяся прямо к читателю речь, с вольным, как в разговоре, порядком слов и синтаксисом, свежесть и искренность интонаций и даже некоторая напевность и льность фразы. «Обогащение языка у Солженицына достигается введением мало-Употребительных народных слов (и даже диалектизмов), полузабытых архаических выражений, новых «советизмов», а т&кже собственных новообразований», — замечал критик Юрий Мальцев.
Обрушиваясь на официальный советский язык, превративший омертвевшие формулы и шаблоны в средство общения, Солженицын пронизывает свой рассказ живыми голосами своих современников. Солженицын не просто сказал правду, он создал язык, в котором нуждалось время, и произошла переориентация всей литературы, воспользовавшейся этим языком.
Покидая родину, Солженицын оставил соотечественникам свое завещание — статью «Жить не по лжи». В ней есть такие строки: «Насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи!»[/sms]
29 ноя 2007, 15:14
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.