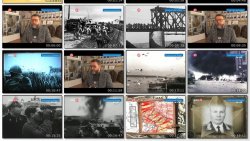Реферат: Жизнь и творчество Федерико Гарсиа
Испанская поэзия начала века была могуча не только обилием талантов. Ее вовремя омыла волна всеевропейского литературного обновления, но лишь омыла, не замутив, не оставив пены. Испанцы были знакомы со всеми открытиями и крайностями нового искусства, но в их руках эти открытия теряли привкус вызова, а крайности не приживались. Слишком сильна и жизнеспособна, слишком серьезна, чтобы увлечься шутовством, была национальная поэтическая традиция, идущая из глубины веков: от древних кастильских песен к утонченной южноиспанской лирике.[sms]
Филигранное искусство Хименеса и лирика Лорки - поздний плод некогда мощной, но сметенной с лица земли культуры испанского юга. Аль Андалус - так в VIII в. называли этот край арабские воины, и до сих пор он носит имя - Андалузия. Почти восемь веков на краю Европы, обращенная к Востоку, развивалась эта уникальная цивилизация. Ей многим обязан Запад. Наука Востока, бывшая тогда на голову выше европейской, трудами переводчиков Испании в эти века стала достоянием северных,стран. И никакие религиозно-освободительные войны не могли прервать контакта культур: арабо-андалуэские мотивы звучат в поэзии трубадуров, своды северных соборов напоминают лес арокподков кордовской мечети... В одном из интервью Лорку спросили, что он думает об отвоевании испанского юга и изгнании с полуострова мавров и евреев. Он отвечал: «Это были горестные события, хотя в школах учат иначе. Погибла великолепная цивилизация, поэзия, астрономия, архитектура, тончайшее искусство, не знавшее себе равных, а на их месте встал злосчастный, запуганный город...» В. этой фразе о Гранаде столько же горечи, сколько правды, но это не вся правда. Гранада была для Лорки не только родным городом - она питала его поэзию.
Лорка родился в небольшом селении - Фуэнте Вакерс (Пастуший Ключ) недалеко от Гранады. «Мое детство, - вспоминает он, - это село и поле». Любовь к земле, чисто крестьянское к ней отношение, свойское и мистическое, уважение к бедности - все, что полностью выявилось в его поздних пьесах, родилось тогда. В 1909 г., когда Федерико было одиннадцать лет, семья переезжаете Гранаду, и вольное поле детства - уже навсегда - сменяет город. Белые стены в темной зелени мирт, Алые Башни, за ними галереи Альгамбры и сады Хенералифе, цыганские пещеры Сакро Монте и снежная гряда вдали над фиолетовым небом. Здесь прошла его юность, здесь было задумано почти все, а написано - многое, здесь он организовал журнал «Гальо» и праздник народной песни; отсюда он рвался в Мадрид, в Каталонию, в Америку - лишь бы подальше от убийственно убогой духовной Жизни захолустья, от занятий юриспруденцией, от семьи - пусть даже доброй и любящей. Он рвался к независимости, к делу, к люцям, театру, а главное - из того лунатического оцепенения, в которое помимо воли погружает Гранада. Но кто знает, что было необходимо ему... Он всегда возвращался - после провала первой пьесы, после славы, которая не изменила его ни на йоту, после горя, после странствий по испанским селениям со студенческим театром, который он придумал, организовал и назвал «Балаганом» - «Ла Баррака» (он был там всем сразу - режиссером, актером, художником, нтом, рабочим сцены). Ј>н возвращался ежегодно ко дню их общих с отцом именин. А последний раз он вернулся, когда над Испанией сгустилис" тучи: «Я преду, все-таки я еду домой, и будь что будет». В день приезда вспыхнула гражданская война.
Андалузия - страна трех столиц: Кордовы, Севильи, Гранады, трех города поэзии Лорки. Кордова - наследница Рима, хранительница мудрости, родин Сенеки и Аверроэса, город белых колонн, строгой'Чсультуры, четкой мысли лаконичной, образной поэзии здесь творил Гонгора. Севилья - город мор плавателей и мастеров; город Дон Хуана здесь родилась легенда о нем, горог открытый всем ветрам и страстям, отсюда уходили на запад каравеллы. Горо стремления, решимости, отваги, дела, которое здесь всегда вызов, если не мяте" город, знавший крах и славу, но прежде всего горечь: ничто не приход-таким, как мечталось. Все золото Америки хлынуло в Севилью, но Индия н стала ближе...
Кордове - мысль, Севилье - страсть, Гранаде - память. Гранада - ей дано ни спасти, ни забыть, Гранада - плакальщица, город вины и памяти. «Гранада - словно сказание о том, что когда-то было в Севилье». Горы, небхолмы - отсюда «не выйти в море». И как напоминание о недосягаемом повсюду вода: родники, источники, фонтаны. Печальный, завораживающий наполняющий ночь говор воды - наследие мавританских времен. Город п: терь - «здесь зияют пустоты, оставленные невозвратным». Город затаенно одинокой, долгой - длиною в жизнь - мечты; чужому взгляду непонятен . стойкий зарок: не дать мечте осуществиться, не приближать ее ни помыслр»! ни словом. Достало бы сил, страсти, цельности, но удерживает печальное зн~ ние: стремление выше свершения, канун полнее события. Пусть остается н прожитым пережитое.
«Только тайной мы живы... Только тайной...» - пишет Лорка под одним рисунков. От нее, от андалузской завороженности тайной, - недосказанно Лорки. Он всегда недоговаривает (как гитара).
Поэзии Лорки вообще чужд исповедальный тон, свойственный лирике XX . (в том числе испанской - Хименесу, Мачадо). Его лирическое «я» - это без" мянное и всеобщее «я» народной песни. Эхо «трех вечных голосов», котор-поэт, по убеждению Лорки, должен всегда и прежде всего различать в разноге лосице мира: «голоса смерти со всеми его оттенками, голоса любви и голо" искусства». Ничто случайное не может заглушить их.
Когда летом 1936 г. Лорка прочел Висенте Алейксандре «Сонеты сумрачн: любви» (их рукопись пропала во время гражданской войны, до нас дошли лип несколько сонетов), Алейксандре, не сдержавшись, воскликнул: «Как же т" наверно, страдал!» Лорка улыбнулся в ответ открыто, по-детски. В этой улы' была радость другу понравились стихи, была благодарность за участие, был и запрет. Нельзя было запретить мягче и бесповоротней. Так же мягко и юмором чтобы не обидеть высокомерием - Лорка уходил от ответа, ее журналистское внимание переходило границы. Он избегал говорить о себе и любил рассуждений о поэзии: «Оставим их профессорам... Смотрите - у меня5 руках пламя. Я понимаю его, я владею им, но не могу говорить о нем, не впа в литературу. И не потому, что не осознаю того, что делаю. Если правда, что'
поэт, божьей милостью или дьявольской, в той же мере я поэт милостью
техники и воли...»
О поэзии он говорил намеренно и подчеркнуто просто: «Поэзия не знает границ. Вот вы возвращаетесь домой промозглым утром, подняв воротник, от усталости едва волоча ноги, а она ждет вас на пороге. А может, у ручья, или на ветке оливы, или на скате крыши... Везде есть своя тайна, и поэзия - это тайна, которая живет во всем. Мимо идет человек, вы'взглянули на женщину, пес перебежал дорогу - все это поэзия...»
Он был самой жизнью - дарящий радость, открытый, щедрый. «Федерико был праздником» - в этом единодушны и друзья, и те, кому посчастливилось слышать его хоть однажды. Но из мемуаров в мемуары повторяется: «В нем было что-то, чего мы не умели разгадать, какая-то тайна», «что-то давнее, древнее, как ночная гряда андалузских гор...» Древнее, как те три вечных голоса, которые он слышал.
В том, что писал Лорка, было и предчувствие гибели. Предчувствие таин¬ственное, но не страх смерти и не жажда бессмертия были тому причиной. Он не обманывался в еврей судьбе, потому что не отделял ее от народной, и в этом знании неизбежно была не покорность воле событий, а выбор. И чем тревожнее становилось вокруг, тем определеннее он говорил о своем выборе. Уже становились обязательными клише об «истинно национальном духе, счастливо нашедшем свое выражение в Фаланге», без них не вступали в должность и не выходили на пенсию; уже шла через всю стену гранадского муниципалитета надпись: «Родина превыше всего! Да здравствует Хиль Роблес!», когда Лорка в интервью центральной4 газете в ответ на вопрос, по тем временам более чем провокационный, объяснил свою позицию без недомолвок: «Я всегда буду с теми, у кого нет ничего, с теми, кому отказано даже в нищенском покое... Я испанец до мозга костей и не смог бы жить вне родины, но мне ненавистен испанец, полагающий, что быть испанцем этого более чем достаточно. Я брат всем людям и презираю тех, кто одержим абстрактной идеей национализма, кто любит родину зажмурившись. Хороший китаец мне ближе плохого испанца. Я воспеваю Испанию и чувствую ее до самых глубин, но всетаки прежде всего я гражданин мира и брат всем людям». И сколько ни спрашивали, он повторял свою декларацию независимости.
Если бы это была декларация художнического индивидуализма, ее бы простили как поэтическую вольность - таковые дозволялись. (По окончании войны Франко заявил: «Мы поэтов не убивали». И, по непроверенным сведениям, добавил: «Иначе пришлось бы убивать их всех подряд».) Но выбора свободного, естественного, человеческого - Лорке простить не могли, а этот выбор был во всем, что он писал: «Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют: с цыганами, неграми, евреями, маврами, ведь в каждом из нас есть что-то от них». Первые, о ком вспоминает Лорка, цыгане, и лучшая его книга названа «Цыганское романсеро».
Романс в Испании издавна был любимым народным жанром веками из уст в уста передавались романсы о королях и мятежных графах, о доблестных воинах, мучениях долга, чести или дюбви. Так или иначе, но испанский романсвсегда тяготел к истории, она же на протяжении тех веков, когда создавали романсы, была историей становления независимого национального государ ства. Лорка называет свои романсы «цыганскими» наперекор традиции: в них н будет истории, подвигов, событий, перекраивающих карту полуострова, - бу дет мир, суровый, сумрачный, прекрасньпЧ и беззащитный. Мир, в котором мешают флюгарки и зодиаки, поют стеклянные петухи, зеленая луна баюкает д вушку, а смуглые ангелы хоронят убитых. И в который раз здесь случается чему из века в век суждено повторяться:
В Риме троих не дождутся. И четверых в Карфагене...
«Но эта книга, - объяснял Лорка, - хотя и названа «цыганской», на сам деле - поэма об Андалузии. Я назвал ее цыганской потому, что цыгане это самое благородное и глубокое на моей родине, это её аристократия, хранител огня, крови и речи... В этой книге едва намечена Андалузия, которую знают вс « в каждой ее строчке трепещет неведомая Андалузия.
Здесь нет ни тореадоров, ни бубнов, а есть один-единственный персонаж,огромный и темный, как летнее небо, - «Тоска, которая пронизывает собою iтоска, которая не имеет ничего общего ни с печалью, ни с томлением, ни с какдругой душевной болью, это скорее небесное, чем земное чувство, андалузск
тоска борение разума и души с тайной, которая окружает их, которой они Iмогут постичь».
Мир, созданный Лоркой, прежде всего целен. Это именно мир, а не пре женные фрагменты действительности. В этом мире свои понятия о счастье, че ти и воле, своя логика логика сказки, свои законы - законы трагедии. Ь еще в далеком будущем, задолго до развязки, она отбрасывает тень. Поэтич ский мир Лорки изначально трагичен именно потому, что не отграничен от р ального. Реальность дала ему плоть и кровь, от реальности его земля, люди и города, но от реальности же и угроза разрушения и гибели. Здесь все грань, «граница сна и яви».
Лорка писал о слиянии в «Романсеро» «цыганской мифологии с грубо' сегодняшней обыденностью». Это соединение и существование рядом, на ных правах, казалось бы, несоединимого делает мир Лорки поразительно напряженным.Контраст выявляет взаимное тяготение двух враждебных нача Миф преображает обыденность, которая вне мифа так убога и груба, что, жется, и не должна называться жизнью, но называется, и недаром ведь нее («из какого сора») растет миф, а без нее, как ни бейся, получится лип химера. Ив «Романсеро» именно равнодействие мифа и реальности забота Лорку: «Я хотел бы, чтобы образы «Романсеро», пишет он, были виден:: ями того мира, в котором живут цыгане, они должны быть поняты ими:;; С первых строк видно, что миф здесь сплетен с элементами, которые мож было бы назвать реалистическими, если бы, соприкасаясь с магическим ном жизни, они бы не обретали тайный, непостижимый смысл, который сродн' душе Андалузии драматическому единоборству андалузской отравы с гс метрией и равновесием Рима».
Но миф не только преображает жизнь: растревоженная мифом, она меняется сама навстречу, и меняется миф, обретая в преддверии столкновения честность взамен тумана н завершенность. И вот этот мир зыбкого равновесия, готового рухнуть, миг последнего тождества с собой прежним, когда перемена внутренне ясна и неотвратимо готова выявиться, это последнее мгновение и останавливают романсы канун горя, презрения, смерти. Поэтому так естественно возникает в конце их интонация прощания, и горестнее всего она в романсе о гибели цыганского города.
Традиционный испанский романс был повествованием он вышел из эпопеи. Но едва акценты смещались, едва лирическое начало, подспудно существовавшее в каждом повествовании, обнаруживало себя, романс превращался в песню и назывался тогда лирическим. Разделение было четким и держалось с возникновением жанра до «Цыганского романсеро» больше пяти веков. «Я хотел сплавить повествовательный роман и лирический, говорил Лорка, так, чтобы они не утратили своих достоинств, и, кажется, мне это удалось, например в «Сомнамбулическом романсе», где есть полное ощущение сюжета, но никто не знает, что же произошло, и даже я сам, потому что поэтическая тайна остается тайной и для поэта, повествующего о ней». Лирическая стихия, скрытая в повествовании Лорки, так сильна, что ей нет нужды подчинять себе повествование.
Лорка не мог не прийти к драматургии. Великий поэт, он стал великим (и пока не оцененным по достоинству) драматургом XX ст. Он сделал то, что не удалось никому, хотя многие пытались, возродил трагедию. Лорка вернул ее к античным и фольклорным истокам, очистил от бытовизма и пафоса, в которых топил трагедию XIX в., освободил от обязательной в XX в. примеси фарса. «Сейчас не время для фарсов», сказал он в интервью в 1934 г. А всем тогда казалось самое время. Казалось, только фарс и способен представить тот предел человеческого падения, который являла с короткими передышками Испания 20-30-х гг. (да и не только Испания). Лорка был прозорлив он знал, что время, которое отсчитывают часы (а это единственный одушевленный механизм в мире Лорки, и всегда тревожащий), было временем трагедии, и до катастрофы оставались считанные часы.
В ночь на 17 июля 1936 г. Лорка выехал в Гранаду. То была последняя предвоенная ночь. В первые же дни фашистского мятежа он был арестован и 19 августа расстрелян на обочине дороги в восьми километрах от Гранады.
В его смерть долго не верили - у Лорки не было врагов, он не принадлежал ни к одной из партий и всякое политическое обвинение, предъявленное ему, было бы просто абсурдным. В это время без суда и следствия расстреливали врачей и учителей, ученых-арабистов. Лозунг испанского фашизма «Смерть интеллигенции!» с невиданным размахом претворялся в жизнь.
Жизнь города стала напряженно-мучительной. Сумерки раздирал рев авто¬мобилей, и то, как он смолкал перед дверью (вчера соседской), было страшнее Ударов об дверь прикладом, уже не оставлявших сомнений. Гранада замерла чтобы выжить. «Злосчастный, запуганный город», привычный замирать в дни и годы казней. Так было пять веков назад, когда половина города целовала дверисвоих домов, прощаясь с родиной; так было век назад, когда за вышитые н лиловом знамени слова «Свобода, Равенство, Закон» вели на казнь Мариан Пинеду. Ее вели через весь город, и ни одна рука не поднялась в прощально' приветствии. Лорка это припомнил в своей драме о Мариане Пинеде, словно : не желая знать, что спустя полвека после казни в Гранаде воздвигли памятни" героине.
Отчетливее и раньше других Лорка ощутил надвигающуюся катастроф Но может быть, поразительнее всего то, что он понял ее скрытый тягостны смысл испанской трагедии суждено было стать началом мировой бойни Она началась с Герники уничтоженного авиацией мирного испанского го родка и кончилась Хиросимой. А до того никто не мог знать, что самолеты? несущие смерть, станут приметой этой войны, уже не различающей солдат : мирных граждан, фронта и тыла. Но в пьесе Лорки «Публика», написанной 1931 г., за шесть лет до гражданской войны и за девять до мировой, н театром, где идет представление «Ромео и Джульетты», кружат самолеты: гу моторов, взрывы все ближе и ближе и рев толпы, ворвавшейся в театр заглушают слова прощания и любви. С погрома в театре, которым кончаете «Публика», начинается другая пьеса Лорки она осталась неназванной незавершенной. Спектакль, на этот раз «Сон в летнюю ночь», прерван бом бежкой. В партере и на галерке стреляют, горят декорации, вносят ранены театр разгромлен (а ведь «Весь мир театр» об этом напоминает шекспи ровский спектакль), убит Поэт. Сцена второго акта морг крематория, гд плач Актрисы над телом Поэта тонет в общей погребальной песне плач матерей над детьми, убитыми бомбой... И это было написано тогда, ког горящие города, дым крематориев над Европой, рвы вместо кладбищ, был еще далеким будущим, от которого как могла заслонялась жизнь, куда н смела заглянуть литература.
Лорка видел будущее без иллюзий - так учила его память города и народ" Исконно испанским было это ощущение жизни как развертывающейся траге дии: судьбу, даже если она горе и смерть, здесь испокон веков встречал^ лицом к лицу, не прячась, не жалуясь и не отчаиваясь с гордой стойкостью. « других странах смерть - это конец. Она приходит, и занавес закрывается. Испании иначе. В Испании он поднимается».
Власть долго не признавалась в убийстве. В интервью, данном через го после гибели Лорки, Франко, вынужденный вновь и вновь оправдываться, рас ставил точки над i: «Следует признать, что во время установления власти Гранаде этот писатель, причисленный к мятежным элементам, умер. Такие слу» чайности естественны во время военных действий». Из всех речей Франко памяти человечества останется только эта - с ханжеским «умер» и циничным «это естественно» да и то лишь в комментариях к собранию сочинений тог кого диктатор назвал «этим писателем». Запоздалая справедливость не смягч-ет потерю. Но остаются стихи, остается театр и , остается цыгански город - прекрасный, призрачный, неподвластный разрушению и по-прежнем беззащитный...[/sms]