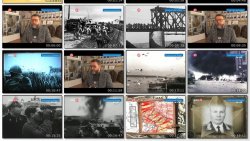«Три момента (из встреч с A.M. Калединым)»
Петроград. Революционная весна в разгаре - весна 1917 г. Сырые улицы, сырые шинели, сырые семечки. Бесцветно, бесталанно, безнадежно.
В загаженной, бывшей жандармской комнате Николаевского вокзала группа военных; здесь бывший военный министр генерал Шуваев и два брата-генерала Каледины. Будущий атаман Донского войска бледен и сильно нервничает; он только что покинул действующую армию и едет с больным братом в Москву.
Три генерала связаны долгими годами прежней совместной службы; но главный цемент их связи - это характерная для всех трех твердость, чистота убеждений и преданность долгу. Они тихо разговаривают. За окном, - на перроне, сутолока, шум и рев солдатской толпы, осаждающей вагоны.
«Известно ли вашему высокопревосходительству», - обращается к Алексею Максимовичу присутствующий в этой комнате молодой полковник, - «что донские общественные деятели выдвигают вас на пост Войскового атамана?»
«Знаю, слышал, писали».
И, нервно подергивая согнутой в локте рукой, генерал быстро начинает шагать по комнате. В полумраке двигаются два светлых пятна.
«Могут ли донцы надеяться, что вы согласитесь?»
«Никогда!»
И еще быстрей в темной комнате мелькают георгиевские кресты.
«Но, ваше высокопревосходительство, не мне вам это говорить, вы должны отдать себя казакам, ибо кто как не вы, в такое трагическое время поведет донской народ?»
«Народ?! Вы говорите, народ?!» И генерал останавливается.
«Донским казакам я готов отдать жизнь, но то, что будет - это будет не народ; будут советы, комитеты, советики, комитетики. Пользы быть не может. Пусть идут другие. Я - никогда!»
Поезд, набитый серой солдатской массой, отходит. Мимо провожающих плавно проплывает туда, на юг, к своему трагическому концу стоящая у окна фигура будущего чистейшего донского атамана.
В Новочеркасске зима; конец декабря. Большой, синий, полутемный атаманский кабинет. В глубине направо за столом, у карты изможденное, усталое лицо «мятежного» атамана Каледина. Тут же у стола, одетый рабочим, полковник Генерального штаба; это гонец на Кубань, отрезанную от Дона большевиками.
Генерал думает вслух и это - инструкция гонцу; записная книжка запечатлевает приказания атамана.
«Обстановка у Черткова (в то время отряд советских войск подошел к Чертково), известна; мало ружейных патронов, но это не так страшно, беда в том, что нет артиллерийских снарядов. Необходимо нашим казакам показать, что Кубань с нами... Думаю, старый генерал Гулыга по-прежнему авторитетен в кубанских массах; необходимо получить для Ростова хотя бы два только пластунских батальона. Надеюсь на генерала Гулыгу; пусть кубанцы возьмут обязательно Тихорецкую - этим развяжем руки на Великокняжеском направлении».
Тихо в кабинете; импровизированный рабочий спешно записывает слова атамана. Генерал поднимает глаза от карты и особым каким-то проникновенным голосом говорит:
«Судьба Кубани решается на Северном Дону. Пусть это знают. Взятие Новочеркасска ничего не даст. Если хотят существовать, пусть направляют все здоровое в Ростов; пусть не жалеют для Дона артиллерийских снарядов. Хорошо, если правительство Юго-Восточного Союза переедет в Ростов. Не нужно ему цепляться за Екатеринодар, не время этим заниматься теперь. Нужно смотреть за всех».
И снова глаза генерала опускаются на карту. Отчетливо и резко доносится в кабинете звук ружейного выстрела. Стреляют где-то в ночном мраке недалеко от дворца. Еще ниже склоняется голова атамана.
«Желаю вам благополучно проскользнуть через Тихорецкую. Да... Судьба Кубани решается на Северном Дону. Ну, в добрый час!»
Атаман встает и останавливается глазами на раскрытой карте казачьих областей. И откланивающийся в дверях рабочий-полковник видит образ человека - орла, который размахом крыльев своих желает прикрыть все казачество от гибели и разложения. В эту декабрьскую ночь еще не верилось, что временно ослепшие дети этого орла поднимутся на него в его же гнезде.
* * *
Яркий свет февральского солнечного дня. Над крыльцом Кавказских гор вздымается белоснежный Эльбрус. Но душно и тесно в обширном здании нового училища ст. Марьенской; - это заседает последний Войсковой Круг Терского войска. Атамана Караулова нет: он убит. Терское правительство бежало уже из Владикавказа. В Моздоке заседает большевистский съезд Советов.
Смутно, печально на Тереке. Мало на Круге депутатов-казаков; всего 60 стариков да временный Войсковой атаман есаул Меденик. А кругом бушует море большевиков, - молодежи: и солдат, и казаков. Галдеж, ругня, улюлюканье. Смутно на Тереке. Спокойно, отдельной группой, сидят уздени и вожди кабардинского народа. - Вот Трамов, вот Забит-Гирей; там Инал Пшуков. Кажется, что волна страстей катится мимо, - она не задевает их. Дальше - 4 депутата от Дона; посланцы атамана Каледина; два уже седые, два помоложе. Сильно и твердо звучат слова Калединского привета Тереку.
Старики отвечают; многие плачут. Старик в рваной черкеске кричит:
«Смотрите, не забыл нас Каледин!».
Но мрачно молчит толпа; она чем-то придавлена, но это что-то не здесь, не в станице.
Чинно встают уздени и словами восточного красноречия просят донцов сказать их атаману, в котором залог безопасности донского края, что кабардинский народ был бы счастлив, если бы у него путеводителем был тоже генерал Каледин.
Наступает ночь. Наутро назначаются выборы нового Войскового правительства. Снова ярко блещет солнце; снова сверкают снеговые вершины; снова та же ст. Марьинская, но Круг, - Круг уже не тот! Шум и рев бушующей
ТОЛПЫ:
«Долой калединцев! Убить Меденика! Убить донских депутатов!»
Оказывается, всем стала известна телеграмма о безвременной кончине Донского атамана. Нет больше обаяния имени. Нищета душевная и умственная обнаглела сразу. Тесным кольцом окружают кабардинцы Меденика и донских депутатов и увозят к себе в аулы. А снеговые вершины Эльбруса сверкают по-прежнему своей бесстрастной белизной.