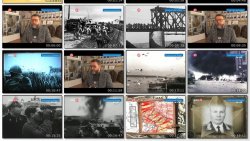Статья Николая Литвина «Первый казачий мятеж»
«Одна из первых страничек еще только начинавшейся некогда великой донской трагедии, эпизод из жизни старого Новочеркасска, доживавшего последние сказочные дни, отмеченные огнями, теплившимися вокруг бессмертных теперь Каледина и Назарова.
Много моментов, эпизодов и встреч тех дней мне представляются теперь, сквозь уже существующую дымку исторической дали, рядом маленьких, мягких исторических акварелей, колоритных листов, оторванных ветром от чего-то большого и целого, еще неподобранных, еще носящихся в пространстве.
И вот, эти дни - грустные акварели зимнего Новочеркасска, только что почувствовавшего, что над приближающейся донскою весною стало новое, нежданное, грозное, отвратительно давящее, смертельное. Сквозь старые стены областных учреждений, в покойные гостиные новочеркасских особняков вдруг ворвалась сумбурная и тревожная весть о каких-то мрачных людях, где-то делающих новую донскую власть и грозящих грязными кулаками старой донской столице.
В Новочеркасске стало известно о мятеже казака Подтелкова. Атаману донесли, что станица Каменская объявлена новой столицей нового, «трудового» Дона, и что оттуда ощетинились на Новочеркасск казаки-фронтовики, выбросив за Зверево угрожающий авангард лейб-атаманцев.
В правительстве имелись перехваченные телеграммы вождей трудового казачества к вождям советских армий. В этих телеграммах говорилось, за сколько Подтелков и Кривошлыков продали свободный доступ в донские степи эшелонам Крыленко. Атаман знал и видел все и страдал большою, кристальною душою.
- Если казаки идут с ними против нас, я с ними драться не могу.
А из Каменской приходили все новые и новые вести. Стало известным, что на перенесенном в станицу из Воронежа съезде фронтовиков приняты запальчивые решения, и что неизбежность кровавой гражданской войны на Дону - очевидна.
Правительство решило использовать все средства для того, чтобы не пала на голову донской власти историческая ответственность за происходившее.
12 января решено было отправить в станицу Каменскую делегацию для выяснения положения и переговоров с противной стороной. К этой делегации удалось пристроиться мне, военному корреспонденту газеты «Вольный Дон», и художнику Л. Кудину. Тогда я печатал в газете свои беглые корреспонденции об этой поездке, и теперь мне хочется набросать лишь в общих чертах обстановку, среди которой начались события, закончившиеся огромной трагедией донского народа и безмерными искупительными жертвами, обагрившими грустные новочеркасские акварели святою кровью лучших донских людей...
12 января на Новочеркасском вокзале за несколько минут до отхода поезда с членами делегации был А.М. Каледин. Атаман беседовал с отъезжавшими и говорил делегатам:
- Вы все-таки мягче с ними как-нибудь говорите. Я не знаю, в чем, собственно, там дело, но если это, действительно, наши же, донские казаки, выбрасывают «трудовые» манифесты, подымают боевой клич против меня, - нам ничего не остается делать...
Мне атаман сказал:
- Очень хорошо, что вы едете с этой делегацией. Напишите все так, как есть на самом деле.
После этого я видел атамана всего несколько раз, и эту встречу на грязном вокзале, переполненном приезжавшими и уезжавшими волонтерами, среди суетившихся чего-то ожидавших людей, - я не забуду.
Атаман говорил таким тихим, покорным голосом, такое покойное и светлое было у него лицо... Тогда не могла прийти в голову страшная мысль, но, вот теперь, почему-то кажется, что тогда именно уже начал разливаться кругом тот жуткий колорит последних дней в донской столице, который окрасил багрово и грозно незабываемое 29 января...
В составе делегации ехали П.М. Агеев, крестьянин Светозаров, Бадьма Уланов, Г.И. Карев, популярный делегат войскового круга - «дядя Митяй», член совета союза казачьих войск есаул Аникеев.
Замечательная поездка, через станции, занятые партизанами Войскового правительства, чрез глухо шумевший горный Грушевский район.
Помню любопытную путевую деталь - встречу с людьми, уже бросившимися в закипавший боевой водоворот, при первой тревожной вести, добровольно ставшими на честный пост зоркого, ответственного часового.
На перроне станции Сулин выстроена маленькая воинская команда. Молодежь, почти мальчики, закутанные в длинные, мешковатые шинели. Стоят в две шеренги, словно на параде. К ним подходят члены правительства с Агеевым впереди. Раздается громкая отчетливая команда:
- Смирно!
От первой шеренги отделяется молодой прапорщик и с рукою у козырька фуражки подходит к Агееву.
- Для чего вы выстроили своих людей?
- Для встречи делегатов Войскового правительства.
- Кто вы?
- Мы - партизаны есаула Чернецова.
И прелестные нотки гордости прозвучали в отчетливом ответе прапорщика. На партизанов глядят с большим вниманием. Еще бы! О Чернецове уже ходили легенды, десять чернецовцев разгоняли целые эшелоны красногвардейцев.
Такая же встреча на разъезде Черевково, и, наконец, освещенный газовыми фонарями, людный перрон Зверев-ского вокзала.
Зверево - в руках повстанцев. Шумной и буйной толпой фигуры в серых шинелях осаждают подкативший делегатский поезд. Здесь уже не те почтительные взгляды, не те приветственные встречи, которые мы видели от Новочеркасска до Черевково. Окружают тесно и бесцеремонно. И в этой враждебной толпе ловлю сначала непонятные слова:
- Вот этот, видишь - попом переоделся.
Разъясняется. Кем-то был пущен слух, что в составе делегации едет сам переодетый генерал Каледин. Не видавшие в глаза атамана серые фантазеры быстро сочинили легенду о том, что священник, ехавший с нами в поезде, был не кто иной, как Войсковой атаман.
Нелепая легенда так же быстро умерла, как народилась.
- А который Богаев?
Разве не видишь, вон тот, высокий, в серой шапке.
- То сам Агеев, а Богаев в Черкасске остался.
В толпе шныряют юркие люди в штатском. Много встречал я их в дни скитаний по революционному фронту, по улицам революционных городов. Все похожи один на другого, неубедительные, нелепые застрельщики, способные только настроить толпу на насилие, на самосуд.
Какой-то прапорщик, кажется, Крюков, революционный комендант Зверево. Он строго читает мою телеграмму в газету и покровительственно говорит:
- Да, вы пока верно освещаете положение. Что ж, может быть, мы и сговоримся с правительством.
Замечательный тон и апломб. И я невольно думаю:
- Какой портфель в будущем кабинете Подтелкова грезится этому юному, сегодняшнему станционному коменданту?..
А в зале 1-го класса иная картина. Здесь уже более часа говорит со стула Агеев. Ему кажется, что говорит он хорошо и тепло. И нам так кажется...
Но кругом уже атмосфера митингового скандала. И кажется, что вот, вот, совсем потонет в ней мысль и смысл того, ради чего явились сюда черкасские люди. Мятежная, крикливая станция. Я не забуду этот станционный зал, шумную серую толпу, тонувшую в тяжелых облаках махорочного дыма, равнодушный треск телеграфного аппарата за дверью, и неподвижную фигуру Агеева среди кричащей толпы.
Вечер 12 января.
Люди в черных чуйках, гастролеры Каменской и Воронежа, сказали, чего они хотят:
- Долой буржуазное правительство!
Под эти крики новочеркасские делегаты проходили среди живых серых шпалер к вагонам. Под эти крики поезд медленно двинулся к Каменской.
От проезжего военного врача, севшего в наш вагон, узнаю постепенность каменских событий. Большевистское выступление здесь подготовлялось давно, но долго приезжим агитаторам не удавалось поднять восстание против Каледина. 10 января в станице открылся перебравшийся сюда из Воронежа «Съезд фронтового казачества». Образовался военно-революционный комитет, выпустивший «манифест» к донскому, народу. В этом манифесте указывалось, что съезд берет в свои руки «почин освобождения трудового казачества от гнета контрреволюционеров из Войскового правительства, генералов, помещиков, капиталистов, мародеров и спекулянтов». Говорилось, что 11 января власть в области переходит в руки в.-р. комитета.
До пришествия в Каменскую воронежских большевиков в станицу наезжал вездесущий Сырцов. Немалую роль в Каменской играл портной Шаденко. Человек с любопытным прошлым:
- Вор, неоднократно привлекавшийся к суду по обвинению в сбыте фальшивых денег.
И другая фигура из галереи каменских деятелей.
Присяжный поверенный Диесперов, наезжавший сюда из Питера и доставлявший станичникам много скверных минут. Определенный политический проходимец в прошлом с именем, затерявшимся в бесчисленных комиссиях Смольного.
Воронеж дал новые имена:
Подтелков, Кудинов, Кривошлыков, Маркин. О них говорят еще мало, но душа каменских событий - они.
Долго поезд стоит в Лихой. Долгий разговор с представителями здешнего комитета. Снова движемся дальше, в глубокой ночной мгле. Незаметно для самого себя засыпаю и просыпаюсь от чьих-то торопливых толчков. Кто-то из спутников расталкивает меня и взволнованно говорит:
- Вставайте скорей, нас хотят арестовать. Ничего не понимаю.
- Где мы?
И слышу возглас П.М. Агеева в другом конце вагона:
- Обыскивать себя мы не позволим. Кто приказал делать вам это новое насилие?
При свете фонаря разглядываю лица новых людей, заполнивших коридор вагона. Казаки, как казаки. Традиционные вихры над левым ухом, папахи и фуражки, сдвинутые набекрень. В руках винтовки.
Начинается новый разговор:
- Забирайте вещи и очищайте вагон.
- Почему? Мы же в нем обратно поедем.
- Ну, это будет видно, куда и на чем вы поедете обратно.
С молчаливой покорностью выходим из вагона на холодный морозный воздух. Станица погружена во мрак. Нас обводят вокруг вокзала и, не заходя на станцию, ведут в станицу. Идем по острым мерзлым кочкам. Ногам больно. Угрюмо шагают по сторонам большевики-казаки с винтовками в руках. Странное шествие в ночной тишине по улицам словно вымершей станицы. Едва видны темные массы домов, чуть различаются высокие силуэты церквей.
Нас подводят к большому освещенному зданию. На крыльце толпятся люди в серых шинелях, расхаживают вооруженные часовые. Что это, тюрьма?
Нет, это помещение военно-революционного комитета. Нас вводят в одну из комнат Каменского Смольного. Заплеванная и накуренная комната битком набита людьми. Нас ждали и встретили гробовым молчанием. Мы - среди героев Каменской революции...
До рассвета - кошмарное, ужасное заседание Каменского комитета, и на нем - гастроли новочеркасских делегатов. Ожесточенная мертвая схватка... А с обеих сторон уже чувствовалось, что совсем напрасна Новочеркасская попытка, что Каменский Смольный решил определенно и СТОЙКО:
- Нечего нам с вами политику разводить. Или вы, или мы...
И так хорошо вырисовывался при свете грязной висячей керосиновой лампы в этой страшной комнате апофеоз политики Подтелковых и Кудиновых:
- Повесить этих Калединых и Богаевских! Заседание проходило в развязном специфически-вульгарном порядке. Хорунжий Маркин читает декларацию.
- Да, мы совершаем государственный переворот. Его идея? Мы идем под флагом трудового казачества. Мы выбросим за борт все старое отжившее, неспособное; мы дадим новую необыкновенную жизнь.
Агеев, Светозаров...
Слова о Каледине в этих стенах.
Теперь, когда смотришь из нашего маленького, но уже исторического далека на эти минуты, - какими они кажутся сейчас ненужными, и как кощунственно звучало тогда имя огромного, непонятого человека, донского атамана Каледина, имя, вызывавшее на тупых лицах предтеч «новой жизни» - злорадные улыбки.
Сквозь окно уже врывались лучи утреннего рассвета. И, вот тогда, в полусумраке нового дня, выпрямилась маленькая фигура. Посланник калмыцкого народа Бадьма Уланов сказал речь. В глазах и голосе калмыка - негодующая душа его страдающего народа. В словах о Христе и Будде - и ласка всепрощения и грозное «помни» о грядущем.
И в душах у слушавших - что-то новое, забытое, просыпающееся. На лицах - отблески душевной борьбы и налеты тяжкого сомнения в себе...
Но надолго ли проснулась похороненная совесть?
Бедные, большие дети, побревшие за продавшимися проходимцами...
С требованиями, решительными, ультимативными, требованиями Каменского правительства новочеркасская делегация покидала ночное заседание. Учащенно дышала грудь на утреннем воздухе. Станица просыпалась робко и боязливо, мятежная, вошедшая в войну отцов и детей.
Было ясно:
Ночью на 13 января порвалась тонкая веревочка, связывавшая едва державшиеся мирные донские дни. Подымалась черная хмара над степью, и уже на палитре зимнего донского неба мешались зловещие краски. Разлился багровый фон, на котором 29 января последний раз поднялась твердая рука Каледина...