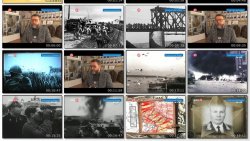Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
22:57 Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Новости / Мировые Новости
22:55 Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Новости / Мировые Новости
Поиск
11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Реферат: Век девятнадцатый
В XIX веке чинно сменявшие друг друга Возрождение, барокко, классицизм вдруг начинают наползать друг на друга, создавая с трудом поддающиеся определению стили. Поздний классицизм и ампир, романтизм, реализм и символизм — все это не только вместилось в один век, но и перемешалось между собой. Потому так сильно зависит от предпочтений того или иного исследователя и формулировки художественных стилей XIX века и отнесение к этим стилям того или иного конкретного произведения.
[sms]
Да и сами художники более тогда спорили о политических реалиях и философских идеях, чем о технических приемах своего творчества. Философские и политические взгляды часто определяли место в художественном мире. Никогда еще искусство не было так насыщено идеологически. Смысла от художника требовали все, а не только педанты-искусствоведы. Не подлежащую сомнению мысль о том, что искусство — это художественное воплощение идеи, XIX век передал как эстафету и следующему. До сих пор мы разбираем более идейно-психологическую канву романов Ф. М. Достоевского или Л. Н. Толстого, чем их художественный язык. До сих пор мы делим лирику А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова на “вольнолюбивую”, “лирику природы”, “любовную”, “гражданскую” именно по ее содержанию, часто вовсе не обращая внимания на художественные стороны. И если в готическом, например, искусстве нам приходится специально реконструировать смыслы произведений по их формам, то в искусстве XIX века эти смыслы и есть основное, главное (иногда и единственное) достоинство художественного произведения.
Но если так настойчиво осмысливали окружавшую их действительность художники XIX века, значит, что-то в этой самой действительности было не так. И действительно, в XIX веке уходят из европейского мира прежние идеалы. Поисками же новых пронизан весь этот век. Недаром в это время именно литература определяет стиль.
Неслыханный взлет, мировое величие и столь же стремительное падение Наполеона Бонапарта, многочисленные революции, бунты, восстания и реформы, гражданские войны “будоражили” весь западный мир. Такого всеобщего переустройства Европа еще не знала. Революции и восстания во Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Германии, Богемии, Польше. Чуть раньше — Сербия, Греция, Россия и опять Франция, а позже, в 1861 году — гражданская война в США.
XIX век подводит итог огромному периоду европейской жизни. Потому само мышление людей I половины XIX века необычайно историческое. Они словно пытаются осмыслить себя в истории своего рода, род — в истории государства, а государство — в истории Европы. И история становится чуть ли не главным персонажем художественного произведения.
Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Так писал в 1816 году Г. Р. Державин.
А Н. М. Карамзин начинал свою “Историю” словами: “История народа есть в некотором смысле то же, что Библия для христианина”. В этих словах, не вошедших в окончательную редакцию, огромный смысл. Это целая программа для художников XIX века — в собственной истории, а не в Библии должны отныне черпать они вдохновение.
Но чтобы понять, осмыслить, а тем более художественно выразить историю, она должна представать не набором случайностей, не хаотическим нагромождением разрозненных фактов, но стройным закономерным процессом. И постигнуть этот процесс не только можно, но и должно. И возникают теории исторического развития. Своеобразным итогом и вершиной этих многочисленных теорий стала в XIX веке всеобъемлющая философская система Г. В. Ф. Гегеля. Редкий мыслитель, художник того времени оставался без влияния грандиозных гегелевских построений.
Обычно, говоря о Гегеле, разделяют его систему и его метод. Однако такое разделение было впервые произведено лишь в русле марксизма. Причем, отделив метод от системы, посчитали пригодным к употреблению метод и совершенно выбросили систему. Это привело к необычайной схематизации всего гегелевского учения.
Человек познает себя лишь в общении, будь это общение с вещами, людьми или с самим собой. Действительно, мы узнаем себя через других людей, видя их реакцию на наши слова, действия. Более того, все наши “рукотворные” действия, все наше творчество направлено именно на познание самих себя. Это своеобразное “опредмечивание” себя. Человек проявляет себя и свой внутренний мир в вещах, понятиях, отношениях, действиях, творчестве и т.д.
Для людей искусства это понять очень легко, так как любое произведение искусства — это просто явленный его творец. Мы так и говорим: “Я играю Бетховена”, “Я вчера видел Пикассо” и т. д.
Но сама природа, человек — кто же познает себя через них? Вот с этого момента и начинает разворачивать свою систему Гегель. Он вводит понятие Абсолюта, называя его в связи с традицией христианской Европы Абсолютный Дух.
Абсолютный Дух, духовное наполнение всего космоса, всей природы и начинает проявлять себя в процессе Творения. Для самопознания он создает Природу. Высшей же ступенью Природы является человек. Человек же, познавая Природу, становится инструментом самопознания Абсолютного Духа.
Эта грандиозная система самопознания Абсолютного духа распадается на множество стадий и этапов. В процессе такого самопознания вырабатываются и особые методы. Эти-то методы и называет Гегель диалектическими (мы называем их сегодня законами диалектики) . Закон единства и борьбы противоположностей показывает источник развития, закон перехода количественных изменений в качественные — характер развития, а закон отрицания отрицания — направление развития. Нельзя забывать только, что все это законы не столько материального мира, сколько законы познающего Духа. Ведь и у самого человека познание начинается с противоречия. При непротиворечиво разумном существовании развития не происходит. Характер самопознания действительно скачкообразный. Мы познаем не непрерывно, но сначала накапливаем информацию, а затем происходит качественный скачок в мыслях и разум как бы сразу оказывается на другом уровне. И действительно, в процессе самопознания постоянно происходят отрицания только что очевидных истин.
Гегель выделяет и уровни самопознающего Духа. Это искусство, где дух проявляет себя целиком в материальном. Это религия, которая наполовину материальна (в области культа), а наполовину духовна, т. е. обращена и к материи и к духу. Третьим уровнем он считает философию, которая выявляет свои идеи исключительно в духовной форме. Именно в философии Абсолютный дух приходит к самопониманию.
Историю искусства Гегель тоже разбивает на три этапа: символическое искусство, где форма сильно преобладает над содержанием (это искусство Древнего мира), классическое искусство, где форма и содержание находятся в равновесии (искусство классической античности); романтическое искусство, где содержание уже не вмещается ни в какую из форм искусства и требует перехода к религии. Сюда Гегель относил все европейское искусства, начиная со средневековья.
В гегелевских построениях, прежде всего, поражает строгая концептуальность. Выстраивается стройное здание системы. Из исторических стилей художественной культуры центральное место в этой системе занимает классицизм.
И действительно, в начале XIX века наблюдается усиление классицистических тенденций. В чистом виде они породили явление позднего классицизма и, как наиболее стилистически ясное его выражение — ампир. Недаром середину XIX века мы воспринимаем как распадение чего-то “классически цельного”.
Ампир (от франц. empire — “империя”) сложился в первой трети XIX века в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусствах. Из искусства архаической Греции и императорского Рима ампир заимствовал монументальный лаконизм и идею утверждения имперского величия через многочисленные атрибуты и символы. Массивные дорические и тосканские портики, обильная военная атрибутика в украшении зданий (дикторские связки, доспехи, венки, геральдические орлы, летящие Славы, факелы и т.д.) становятся привычными. В отличие от зрелого классицизма ампир, часто считающийся поздним классицизмом, ориентируется уже не на мифическую античность, но на данные археологических открытий конца XVIII – начала XIX века. А появившиеся тогда научная теория искусства и художественная критика позволяют направлять художника в его творческих поисках.
Неожиданно близкими XIX веку оказались и формы древнеегипетского искусства, только что открытые во время египетских походов Наполеона. Большие нерасчлененные поверхности стен, геометрическая правильность цельных объемов зданий, массивные пилоны, загадочно величественные сфинксы — все это входит в активную архитектурную практику начала века.
Наполеоновская Франция, Александровская Россия, а вслед за ними и Германская империя становится теми странами, где процветает ампир. Триумфальные обелиски, колонны и арки оказываются самыми стабильными формами на всем протяжении господства этого стиля. Ведущие архитекторы теперь проектируют не столько индивидуальные дворянские усадьбы, сколько общественные монументы.
Да и сами монументы (от лат. monere — “напоминать”) “напоминают” не столько об исторических событиях и лицах, сколько служат демонстрацией идеологических основ империи. Монумент становится “зримым волеизъявлением народа”.
Одна из первых программ нового стиля была сформулирована в проекте монумента Славы живописца Жака Луи Давида, утвержденным французским республиканским Конвентом 17 брюмера 1791 года: “Я предлагаю воздвигнуть этот монумент, составленный из обломков поверженных статуй, на площади Пон-Неф и поместить на вершине его изображение французского народа-титана. На этом величественном в своей силе и простоте изображении будут начертаны крупными буквами слова; на лбу — Просвещение, на руках — Сила, на кистях — Труд. На одной из рук статуи должны быть размещены фигуры Свободы и Равенства, идущие бок о бок и готовые обойти весь мир, чтобы показать всем, что они покоятся на гении и добродетели народа. Эта изваянная во весь рост фигура народа держит в одной руке грозную и могучую палицу, прообразом которой была дубина Геркулеса”.
Но реальное воплощение такого откровенного антихудожественного смешения искусств, утверждавшего насилие во имя гармонии человеческого общества, Европа увидит позже. А тогда, в начале XIX века, реальностью становятся триумфальные арки и колонны, воздвигнутые в честь побед императоров в Милане и Фаэнце, Мадриде и Риме, Лондоне и Мюнхене, Марселе и Ганновере, Петербурге и Москве. Одним из первых таких сооружений стала колонна на Вандомской площади в Париже (43,5 м), отлитая из бронзы и увенчанная фигурой Наполеона в тоге римского императора с богиней Нике на ладони. Официально Вандомская колонна называлась “Памятник великой армии”, но прославляла императора.
В Германии идейной основой ампирных сооружений часто оказывалась национальная (германо-скандинавская) мифология, но переосмысленная в националистическом духе. Один из таких монументов был возведен Лео фон Кленце в 1832 – 42 годах в Регенсбурге, получив громкое название — Вальхалла. Король Баварии Людвиг I задумывал его как первый “общегерманский национальный памятник”, посвященный теме объединения Германии после освободительной борьбы с Наполеоном.
На высоком берегу Дуная встал беломраморный греческий храм, точно повторивший размеры и конструкцию Парфенона. От храма к реке эффектно спускалась терраса. Интерьер храма превратился в чертог павших (Вальхаллу), где, согласно мифу, герои оживают, чтобы пировать с воинственными девами — валькириями. Здесь установили 96 мраморных бюстов национальных героев Германии всех времен, статуи крылатой Победы и бесконечные рельефы с батальными сценами и именами погибших.
Довольно длительный путь прошел русский ампир. Эпоха Александра I характерна в этом отношении созданием многочисленных триумфальных мемориалов и значительной перестройкой центров Петербурга и Москвы. Городские площади, бывшие раньше административно-торговыми центрами, теперь получают теперь самое различное назначение, формируя вокруг себя архитектурные ансамбли. А. Н. Воронихин, возводя Казанский собор, создает религиозный центр северной столицы; А. Д. Захаров, значительно перестроил Адмиралтейство — военно-морской центр; Тома де Томон формирует вокруг здания Биржи на стрелке Васильевского острова торговый центр.
Но особенно плодотворно работает в это время в Петербурге К. И. Росси. Здание Сената и Синода, возведенное К. Росси в 1829 – 34 годах, вместе с Исаакиевским собором О. Монферрана и памятником Петру I (“Медный всадник”) Э. М. Фальконе составили ансамбль административного центра Петербурга. Вершиной же гармонического решения в градостроительстве до сих пор является ансамбль петербургского центра искусств — Театральной улицы (ул. Зодчего Росси). Построенный в 1828 – 34 годах, этот удивительно целостный и необычайно точно угаданный в своих пропорциях ансамбль, включает небольшую площадь Ломоносова, открытую к набережной Фонтанки и обстроенную трехэтажными корпусами. Прямую улицу, образованную торжественными административными зданиями; величественное здание Александрийского театра и примыкающую к Невскому проспекту Театральную площадь, ограниченную публичной библиотекой и павильонами Аничкова дворца. Сегодня это единственный в мире сохранившийся ансамбль, полностью построенный одним зодчим в стиле позднего классицизма.
Центром же всей Российской империи стала Дворцовая площадь, замкнутая полукруглым зданием Главного штаба с триумфальной аркой посередине (К. Росси). Поистине имперским символом, объединяющим не только ансамбль площади, но и императорский Петербург, и всю императорскую Россию виделась современникам монументальная Александровская колонна (“Александрийский столп”), возведенный в 1830 – 34 годах по проекту О. Монферрана.
Москва для строительства имперских ансамблей была еще удобнее Петербурга. “Пожар способствовал ей много к украшенью”, — иронизировал А. С. Грибоедов, подразумевая заново сформированные Осином Бове Красную и Театральную площади.
Однако в николаевское время вкусы меняются. Ведь изучение истории — это не только осмысление пройденного пути, но и попытка понять, почему мы такие, а не иные, и вообще, какие мы. Не случайно именно середина XIX века отмечена бурными национальными движениями и осмыслением своей национальной культуры. Это время формирования многих национальных школ в литературе, живописи, музыке, театре.
Но имперские традиции еще сильны и национальные стили часто развиваются в русле видоизмененного ампира. Так в России в 1841 году указом императора Николая I пышный русско-византийский стиль К. А. Тона официально предписан для строительства церквей и общественных зданий. Так что ни Д. Чичагов при возведении здания Московской городской думы, ни В. Шервуд при сооружении исторического музея не столько творили, сколько выполняли указ.
Но наиболее ярко изменения имперского стиля от общеевропейского к национальному стилю отразились в долгом процессе проектирования и строительства Храма Христа Спасителя в Москве.
“В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное в чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да свершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием делам их предков”. Так, немного высокопарно, но зато искренне писалось в манифесте от 25 декабря 1812 года. Любопытно, что в обширном христианском мире существовало тогда множество храмов, посвященных событиям из жизни Христа. Но. как это ни странно, не было ни одного храма, посвященного самому Христу. Московский храм должен был стать первым.
Объявили конкурс проектов. Работ представили множество. Из представленных работ Александр I выбрал проект молодого и тогда никому еще неизвестного петербургского художника Карла-Магнуса Витберга.
Окончив Академию художеств в Петербурге с золотой медалью, Витберг занимался исторической живописью. Царский манифест о создании храма Христа Спасителя так захватил его, что он, не имея никакого архитектурного образования, ринулся в Москву. На два года он буквально заперся в мезонине здания Московского почтамта на Мясницкой улице, где знакомый предоставил ему квартиру. Эти два года Витберг усиленно изучал руководства по архитектуре и, наконец, принялся за составление проекта, о котором вскоре все заговорили. Александр I, увидев проект, сказал: “Вы отгадали мое желание, удовлетворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтоб он был не одна куча камней, как обыкновенные здания, но был бы одушевлен какой-либо религиозной идеею; но я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтоб кто-либо был одушевлен ею. И потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до 20 проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили камни говорить”. Император не только одобрил проект, но и уговорил Витберга принять на себя руководство строительством, чтобы никем не исказился его замысел.
Сам Витберг предполагал строить храм в Кремле. Александр, считая, что “неприлично разрушать древний Кремль” предложил высокое место над слиянием рек Москвы и Яузы. Граф Аракчеев полагал, что строить нужно на высоком берегу реки Москвы на месте Симонова монастыря. Наконец, было выбрано наилучшее место — Воробьевы горы. Проект Витберга поражал своей колоссальностью и потому требовал широкого пространства вокруг. А Воробьевы горы располагались к тому же между Смоленской дорогой, по которой Наполеон пришел в Москву, и Калужской, по которой он ушел.
Храм должен был состоять из трех высоких ярусов. Все три яруса должны были стать отдельными храмами. Предполагалось, что нижний храм, посвященный Рождеству Христову, будет углублен в склон горы. В его катакомбы предполагалось перенести останки убитых в 1812 году воинов. По сторонам Нижнего храма шла колоннада, где решили увековечить историю побед Отечественной войны и манифесты того времени. Оканчиваться колоннады должны были памятниками из пушек, отбитых у Наполеона. Средний храм в виде креста предполагалось посвятить Преображению Господню. Здесь рассказывалась вся история Христа. А Верхний храм, посвященный Воскресению Христову, должен был быть прозрачным, почти воздушным. По мысли автора, такая трехчастная композиция символизировала триединство тела души и духа в человеке. Венчался этот гигантский храм одной исполинской главой и четырьмя меньшими. В колоннадах меньших куполов предполагалось поместить 48 колоколов, точно подобранных по четырем аккордам.
12 октября 1817 года состоялась торжественная закладка храма-памятника. Торжественная процессия во главе с императором шла от самого Кремля. А на всем пути стояли пятьдесят тысяч солдат и офицеров различных полков русской армии. На самой церемонии присутствовало 400 тысяч зрителей — больше всего тогдашнего населения Москвы.
Начались строительные работы. Но вскоре оказалось, что грунт под храмом непрочный и начался перекос только начавшегося сооружения. Строительство прекратили. Создали специальную Комиссию для обследования фундамента, в которую вошли лучшие тогдашние архитекторы. Заключение Комиссия дала неутешительное. Несмотря на то, что было уже израсходовано более четырех миллионов рублей, работы на Воробьевых горах пришлось прекратить и искать другое место для храма. Кроме того, неопытного в денежных делах Вигберга обвинили “в злоупотреблениях и противозаконных действиях в ущерб казне”. Поговаривали также, что проект носит явно масонский характер. Строительство приостановилось до конца царствования Александра I.
Николай I выбрал для строительства храма место в центре города, рядом с Кремлем, где тогда находился Алексеевский монастырь. Автором нового проекта храма стал Константин Андреевич Тон. Архитектор решил связать формы нового храма с формами Успенского и Архангельского соборов Кремля. Однако, насколько со времени строительства кремлевских соборов выросло Российское государство, настолько и пространство нового храма должно было превосходить пространство древнерусских соборов.
И действительно, размеры храма Христа Спасителя поражали воображение: высота 103 метра, площадь 805 кв. метров, диаметр центрального купола 25,5 метра. Храм был рассчитан на 10 тысяч человек. Только подготовка к строительству заняла семь лет. Закладка храма происходила 10 сентября 1839 года. Из кремлевского Успенского собора к будущему храму шел крестный ход с чудотворными иконами Богоматери — Владимирской и Иверской. После закладки весь день продолжался колокольный звон и пушечная пальба.
Строили храм долго и основательно. Фундамент заложили на невиданную тогда глубину — 30 – 40 метров. Штукатурку внутри здания положили не на стену, а на металлическую сетку, отстоявшую от стены — так создавалась циркуляция воздуха, предохранявшая росписи от сырости. Купол закончили только через 10 лет, а большой крест поставили в 1855 году. Еще через 5 лет сняли леса. Почти 20 лет шла внутренняя отделка. Константину Тону помогали возводить храм многие знаменитые архитекторы: Резанов. Каминский, Дмитриев и другие. Стены храма облицевали светлым камнем. Над высокими бронзовыми дверьми известными скульпторами — Клодт, Логановский, Рамазанов. Пименов, Толстой — были высечены 48 горельефов на темы русской и библейской истории.
Все стены в интерьере были покрыты сплошным ковром росписей. В алтаре помещалась картина Г. И. Семирадского “Тайная вечеря”. На куполе — изображение Саваофа работы академика А. Т. Маркова. Картины, изображавшие Вселенские соборы, выполнил В. И. Суриков. Расписывали храм В. В. Верещагин, Ф. А. Бруни, А. Е. Маковский и другие известные художники. Вместо традиционного русского высокого иконостаса в храме находилась небольшая беломраморная восьмигранная часовня, внутри которой установили престол. Полы выложили мозаикой из полированного мрамора и порфира, а все бронзовые украшения сделали по особым рисункам архитектора Л. В. Даля. Даже церковная утварь и облачения священников делались по особому заказу. А перед храмом на площади поставили первые в Москве фонари с электрическими лампами. Сразу после освящения храм Христа Спасителя стал и мемориальным музеем. По периметру всего здания шла двухэтажная сводчатая галерея, где располагалось 177 мраморных досок с именами погибших, раненых и награжденных офицеров. Здесь же были выбиты сведения обо всех значительных битвах Отечественной войны, названия воинских соединений и частей народного ополчения, а также тексты главных военных документов. Там же хранились трофейные знамена и ключи от покоренных городов.
Освящение храма, которое происходило 26 мая 1883 года, приурочили к коронации императора Александра III. Для этого события П. И. Чайковский специально написал торжественную увертюру “1812 год”. Мощный, величественный храм Христа Спасителя, казалось, утвердился в Москве на века.
Но и многочисленные монументы, и парадные портреты, и мебель темного дерева с пышными золочеными накладками, и русско-византийские храмы, словом все, что составляет “ампирное богатство”— это лишь одна из линий развития художественной культуры XIX века. По-гегелевски, отвлеченно-логически человек чаще осознает прошлое. Причем не свое личное прошлое, но прошлое государства, народа, человечества, всей природы. Настоящее же и себя в его потоке он скорее ощущает и проживает, чем осознает. Потому в художественной культуре XIX века, с ее особо острым восприятием истории, неизмеримо возрастает пристальный интерес к личности. Это уже другая сторона единого культурного процесса. И в первой половине XIX века отражением этого интереса в искусстве стал романтизм.
В романтизме сам предмет искусства переместился вглубь человека, в его “Я”, или “дух”, как тогда любили говорить. Весь двухвековой классицизм, не исключая Канта, Гете и Шиллера, был основан на выдвижении отдельных способностей человека. Бурно обсуждались рационалистические или чувственные способности человека в процессе познания мира. Предполагалось, что рассудок, разум, логика, чувство, воображение, фантазия — все это качества человеческого “Я”. Но что такое это человеческое “Я” оставалось загадкой.
Романтизм и явился попыткой проникнуть в саму сущность человеческого. Как и во всех других направлениях здесь тоже были свои увлечения и преувеличения. Внутренний мир человека очень скоро стал трактоваться как основа всего бытия, как творческая стихия, как единственное и подлинное пространство божественного. И искусство предстало как самая совершенная человеческая деятельность. Да и вся человеческая жизнь стала рассматриваться как художественное произведение.
Но ограниченным человеческим “Я” невозможно охватить все мироздание. И возникает постоянное романтическое стремление, неудержимая потребность постигнуть мир в его движении и изменении. Это становление и одновременно разрушение, всякое исчезновение границ хорошо выражено в самом языке романтической музыки с ее преодолением каденций.
В таком вечном стремлении жизнь человека осознается находящейся на границе реальности и ирреальности. Это параллельное существование в нескольких мирах получило название романтического двоемирия. В искусстве это предполагает наличие множества символов, так как ирреальность можно передать только намеком. Вся культура романтизма полна необычайно богатыми и многозначными символами. Так в романтической музыке огромное развитие получает лейтмотив как способ символизации звукового мира.
Но для появления романтизма именно в конце XVIII века была и социально-историческая причина. Романтизм был реакцией интеллигенции на неудавшуюся буржуазную революцию во Франции. Это было разочарование в революции как способе переустройства мира, так как революция сама своей победой зачеркивает те идеалы, к которым стремится.
Романтизм, как и всякое подлинное художественное явление, многолик. Каждая страна, каждая художественная школа добавляет что-то свое в его облик. Йенские романтики (Ф. Шлегель) определили отношение художника к своему произведению как своеобразную романтическую иронию. Романтики старого германского университетского города Гейдельберга вершиной человеческой мудрости и красоты считали народные сказания и тщательно их собирали (братья Гримм). Английские романтики (Шелли, Вордсворт и др.) погружались в мистический мир средневековой Англии. В Америке рождается детективный жанр (Э. По). Архитекторы же, склонные к романтизму, активно использовали готические формы (так называемый “псевдоготический стиль”). С наибольшей полнотой романтизм воплотился в литературе и. особенно, в музыке. Даже традиционный облик романтического художника — это сплав поэта и нта (Э. Т. А. Гофман, В. Ф. Одоевский).
Удивительно, но ампир и романтизм часто перемешаны не только в творчестве одного художника (например, вполне ампирная опера “Жизнь за царя” М. Глинки и его же романтическая опера “Руслан и Людмила”), но и в одном произведении. Так в упоминавшемся проекте К. Витберга много романтического, а в массивной оперной трилогии Р. Вагнера “Кольцо Нибелунга” — имперски-националистического. Сходны эти стили, и в стремлении показать в художественном произведении не столько то, что есть, сколько то, что должно быть. Утопичность и ампира и романтизма необычайна.
Утопии сопровождали человека издавна. Одной из первых утопий считается, например, рассказ Платона об Атлантиде. Но в XIX веке утопии приобрели сугубо общественный характер. Все стали фантазировать на тему общественного идеала, предлагать варианты совершенного общественного устройства. Одним из интереснейших русских утопистов начала века был В. К. Кюхельбекер. В “Европейских письмах” (1820 г.) он описывает путешествие образованного американца по Европе XXVI века. Париж и Лондон исчезли, Рим и Неаполь в развалинах. Критически оцениваются национальные характеры французов, немцев, англичан, итальянцев, испанцев. Зато автор явно благоволит к Азии, Африке и, особенно — к Америке. А в итальянской Калабрии обосновалась идеальное русское поселение во главе со “старшиной” Добровым, живущее идеалами гражданственности, бесклассовости и высокой образованности.
Необычайно “розовой” и благополучной была утопия Ф. В. Булгарина “Правдоподобные небылицы, иди Странствование по свету в двадцать девятом веке” (1824 г.). Основное действие происходит в Восточной Сибири, на берегу Северного Ледовитого океана. И, надо отдать должное прозорливости автора, здесь упоминаются дирижабли и самоходные повозки, парашюты, подводные лодки и подводные плантации; предвидены телевизор, телефон, рентгеновский аппарат, детектор лжи, льный проигрыватель.
Увлечение утопиями к середине века только увеличилось. Их писали В. Одоевский, А. Мицкевич, П. Чаадаев, А. Герцен, В. Белинский, Н. Гоголь, А. Иванов, Ал. Григорьев. В них рисовались перспективы развития православно-самодержавного государства или через них проникали в Россию идеи социализма.
В отличие от утопистов предыдущих веков, художники XIX века пытаются не только мыслить и фантазировать, но и действовать. Подобно Ш. Фурье Н. Огарев приобрел в 1848 году в Симбирской губернии писчебумажную фабрику, намереваясь разумно устроить работу и быт крепостных крестьян. В городах появляется множество небольших “коммун”. Так группа художников во главе с И. Крамским, несогласных с чересчур академическими требованиями Академии художеств, снимает большую квартиру для совместного проживания и творческого труда. Позже из этой группы возникнет “артель передвижников”. М. Мусоргский также устраивает с товарищами общую квартиру (“Могучая кучка”).
В этом прихотливом конгломерате имперского, классицистического, ампирного, романтического и утопического создавались художественные произведения, ставшие символами века. Показательна судьба знаменитой картины К. Брюллова “Последний день Помпеи”. Присланная из Италии в 1833 году эта картина получила небывалый для России общественный резонанс. Она стала первой картиной об историческом прошлом, прямо воспринятой как метафора настоящего. “Мысль ее, — писал Н. В. Гоголь, — совершенно принадлежит вкусу нашего века, который как бы сам, чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чуемые всей массою”.
В том же 1833 году А. С. Пушкин, воплощая общественные катаклизмы своего времени, пишет “Медного всадника”. И в этом же году Н. Львов на стихи В. Жуковского пишет гимн “Боже, царя храни”. В те же 1830-е годы начинает искать намеренно эпохальный сюжет для картины А. Иванов, В начале работы над “Явлением Христа народу” художник сильно увлекся книгой Д. Ф. Штрауса “Жизнь Иисуса”, где евангельская история изложена бытописательно. Потому и первый набросок к картине выглядит не как приход мессии, но как появление Христа среди людей на берегу Иордана. Постепенно, в ходе двадцатилетней работы над картиной, художник увеличивает дистанцию между Иисусом и народом настолько, что в окончательном варианте это пустое пространство берет на себя основную смысловую нагрузку. Отсюда и возникает тема одиночества Христа, находящегося как бы в иной реальности. Переднему плану, где все ясно выписано и четко различимо, где толпятся такие разные люди, ожидая крещения, противопоставлена одинокая фигура в абстрактной пустыне.
Как Христос на картине А. Иванова приближается к народу, так будущее надвигалось на XIX век. Потому такими пронзительными предчувствиями полны полотна И. Крамского (“Христос в пустыне”), Н. Ге (“Тайная вечеря”, “Что есть истина?”, “Голгофа”), И. Репина (“Бурлаки на Волге”), философские пейзажи И. Левитана (“Над вечным покоем”), оперы М. Мусоргского (“Борис Годунов”, “Хованщина”), оперы и симфонии П. Чайковского (“Пиковая дама” , IV и VI симфонии). В других же картинах проступает прощание — уходит старая Россия (В. Суриков “Боярыня Морозова”, “Меньшиков в Березове”).
XIX век — век перелома. Здесь уходящая культура, уходящее мировоззрение тесно переплетены с тем, что идет на смену. Недаром это время называют не только “веком уходящего дворянства”, но и “веком промышленной революции”, в корне изменившей всю систему человеческих ценностей. Потому так пронзительно воспринимал А. Блок в 1919 году недавно ушедший век (“Возмездие”) : Если в начале XIX века единственным средством общения людей на расстоянии была ямщицкая почта, то в конце века уже действовали железные дороги, телеграф и телефон. Мир начала века — это Европа, небольшая часть Ближнего Востока, самый север Африки да половина американского континента. В течение века этот мир стремительно расширяется. К началу XX века уже практически весь земной шар, так или иначе, входит в сферу интересов Европы. Такое бурное расширение обжитого пространства, освоенного с помощью истории времени и открытых средств общения не могли не изменить коренным образом мировоззрение среднего европейца.
Уже с 30-х годов XIX века европейские умы все более занимает учение позитивизма (от лат. positivus — “положительный”). Его создатель, французский мыслитель О. Конт, отвергал всякую философию как “бесполезное умствование”. Наука же, опираясь исключительно на факты, а не на умозаключения, должна отвечать на вопрос “как что-то происходит”, но не в коем случае не соблазняться вопросом “почему”. “Копание в причинах, — считал Конт, — ведет лишь к домыслам и фантазиям”. Особенно же вредным это считалось в общественных науках.
Нехитрый принцип как нельзя лучше отражал мировоззрение социальных низов, активно ищущих в это время свое место в историческом процессе. В искусстве позитивизм способствовал развитию нескольких направлений. Содержательно его взяли за основу художники-реалисты, а технологически его использовали импрессионисты. [/sms]
[sms]
Да и сами художники более тогда спорили о политических реалиях и философских идеях, чем о технических приемах своего творчества. Философские и политические взгляды часто определяли место в художественном мире. Никогда еще искусство не было так насыщено идеологически. Смысла от художника требовали все, а не только педанты-искусствоведы. Не подлежащую сомнению мысль о том, что искусство — это художественное воплощение идеи, XIX век передал как эстафету и следующему. До сих пор мы разбираем более идейно-психологическую канву романов Ф. М. Достоевского или Л. Н. Толстого, чем их художественный язык. До сих пор мы делим лирику А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова на “вольнолюбивую”, “лирику природы”, “любовную”, “гражданскую” именно по ее содержанию, часто вовсе не обращая внимания на художественные стороны. И если в готическом, например, искусстве нам приходится специально реконструировать смыслы произведений по их формам, то в искусстве XIX века эти смыслы и есть основное, главное (иногда и единственное) достоинство художественного произведения.
Но если так настойчиво осмысливали окружавшую их действительность художники XIX века, значит, что-то в этой самой действительности было не так. И действительно, в XIX веке уходят из европейского мира прежние идеалы. Поисками же новых пронизан весь этот век. Недаром в это время именно литература определяет стиль.
Неслыханный взлет, мировое величие и столь же стремительное падение Наполеона Бонапарта, многочисленные революции, бунты, восстания и реформы, гражданские войны “будоражили” весь западный мир. Такого всеобщего переустройства Европа еще не знала. Революции и восстания во Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Германии, Богемии, Польше. Чуть раньше — Сербия, Греция, Россия и опять Франция, а позже, в 1861 году — гражданская война в США.
XIX век подводит итог огромному периоду европейской жизни. Потому само мышление людей I половины XIX века необычайно историческое. Они словно пытаются осмыслить себя в истории своего рода, род — в истории государства, а государство — в истории Европы. И история становится чуть ли не главным персонажем художественного произведения.
Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Так писал в 1816 году Г. Р. Державин.
А Н. М. Карамзин начинал свою “Историю” словами: “История народа есть в некотором смысле то же, что Библия для христианина”. В этих словах, не вошедших в окончательную редакцию, огромный смысл. Это целая программа для художников XIX века — в собственной истории, а не в Библии должны отныне черпать они вдохновение.
Но чтобы понять, осмыслить, а тем более художественно выразить историю, она должна представать не набором случайностей, не хаотическим нагромождением разрозненных фактов, но стройным закономерным процессом. И постигнуть этот процесс не только можно, но и должно. И возникают теории исторического развития. Своеобразным итогом и вершиной этих многочисленных теорий стала в XIX веке всеобъемлющая философская система Г. В. Ф. Гегеля. Редкий мыслитель, художник того времени оставался без влияния грандиозных гегелевских построений.
Обычно, говоря о Гегеле, разделяют его систему и его метод. Однако такое разделение было впервые произведено лишь в русле марксизма. Причем, отделив метод от системы, посчитали пригодным к употреблению метод и совершенно выбросили систему. Это привело к необычайной схематизации всего гегелевского учения.
Человек познает себя лишь в общении, будь это общение с вещами, людьми или с самим собой. Действительно, мы узнаем себя через других людей, видя их реакцию на наши слова, действия. Более того, все наши “рукотворные” действия, все наше творчество направлено именно на познание самих себя. Это своеобразное “опредмечивание” себя. Человек проявляет себя и свой внутренний мир в вещах, понятиях, отношениях, действиях, творчестве и т.д.
Для людей искусства это понять очень легко, так как любое произведение искусства — это просто явленный его творец. Мы так и говорим: “Я играю Бетховена”, “Я вчера видел Пикассо” и т. д.
Но сама природа, человек — кто же познает себя через них? Вот с этого момента и начинает разворачивать свою систему Гегель. Он вводит понятие Абсолюта, называя его в связи с традицией христианской Европы Абсолютный Дух.
Абсолютный Дух, духовное наполнение всего космоса, всей природы и начинает проявлять себя в процессе Творения. Для самопознания он создает Природу. Высшей же ступенью Природы является человек. Человек же, познавая Природу, становится инструментом самопознания Абсолютного Духа.
Эта грандиозная система самопознания Абсолютного духа распадается на множество стадий и этапов. В процессе такого самопознания вырабатываются и особые методы. Эти-то методы и называет Гегель диалектическими (мы называем их сегодня законами диалектики) . Закон единства и борьбы противоположностей показывает источник развития, закон перехода количественных изменений в качественные — характер развития, а закон отрицания отрицания — направление развития. Нельзя забывать только, что все это законы не столько материального мира, сколько законы познающего Духа. Ведь и у самого человека познание начинается с противоречия. При непротиворечиво разумном существовании развития не происходит. Характер самопознания действительно скачкообразный. Мы познаем не непрерывно, но сначала накапливаем информацию, а затем происходит качественный скачок в мыслях и разум как бы сразу оказывается на другом уровне. И действительно, в процессе самопознания постоянно происходят отрицания только что очевидных истин.
Гегель выделяет и уровни самопознающего Духа. Это искусство, где дух проявляет себя целиком в материальном. Это религия, которая наполовину материальна (в области культа), а наполовину духовна, т. е. обращена и к материи и к духу. Третьим уровнем он считает философию, которая выявляет свои идеи исключительно в духовной форме. Именно в философии Абсолютный дух приходит к самопониманию.
Историю искусства Гегель тоже разбивает на три этапа: символическое искусство, где форма сильно преобладает над содержанием (это искусство Древнего мира), классическое искусство, где форма и содержание находятся в равновесии (искусство классической античности); романтическое искусство, где содержание уже не вмещается ни в какую из форм искусства и требует перехода к религии. Сюда Гегель относил все европейское искусства, начиная со средневековья.
В гегелевских построениях, прежде всего, поражает строгая концептуальность. Выстраивается стройное здание системы. Из исторических стилей художественной культуры центральное место в этой системе занимает классицизм.
И действительно, в начале XIX века наблюдается усиление классицистических тенденций. В чистом виде они породили явление позднего классицизма и, как наиболее стилистически ясное его выражение — ампир. Недаром середину XIX века мы воспринимаем как распадение чего-то “классически цельного”.
Ампир (от франц. empire — “империя”) сложился в первой трети XIX века в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусствах. Из искусства архаической Греции и императорского Рима ампир заимствовал монументальный лаконизм и идею утверждения имперского величия через многочисленные атрибуты и символы. Массивные дорические и тосканские портики, обильная военная атрибутика в украшении зданий (дикторские связки, доспехи, венки, геральдические орлы, летящие Славы, факелы и т.д.) становятся привычными. В отличие от зрелого классицизма ампир, часто считающийся поздним классицизмом, ориентируется уже не на мифическую античность, но на данные археологических открытий конца XVIII – начала XIX века. А появившиеся тогда научная теория искусства и художественная критика позволяют направлять художника в его творческих поисках.
Неожиданно близкими XIX веку оказались и формы древнеегипетского искусства, только что открытые во время египетских походов Наполеона. Большие нерасчлененные поверхности стен, геометрическая правильность цельных объемов зданий, массивные пилоны, загадочно величественные сфинксы — все это входит в активную архитектурную практику начала века.
Наполеоновская Франция, Александровская Россия, а вслед за ними и Германская империя становится теми странами, где процветает ампир. Триумфальные обелиски, колонны и арки оказываются самыми стабильными формами на всем протяжении господства этого стиля. Ведущие архитекторы теперь проектируют не столько индивидуальные дворянские усадьбы, сколько общественные монументы.
Да и сами монументы (от лат. monere — “напоминать”) “напоминают” не столько об исторических событиях и лицах, сколько служат демонстрацией идеологических основ империи. Монумент становится “зримым волеизъявлением народа”.
Одна из первых программ нового стиля была сформулирована в проекте монумента Славы живописца Жака Луи Давида, утвержденным французским республиканским Конвентом 17 брюмера 1791 года: “Я предлагаю воздвигнуть этот монумент, составленный из обломков поверженных статуй, на площади Пон-Неф и поместить на вершине его изображение французского народа-титана. На этом величественном в своей силе и простоте изображении будут начертаны крупными буквами слова; на лбу — Просвещение, на руках — Сила, на кистях — Труд. На одной из рук статуи должны быть размещены фигуры Свободы и Равенства, идущие бок о бок и готовые обойти весь мир, чтобы показать всем, что они покоятся на гении и добродетели народа. Эта изваянная во весь рост фигура народа держит в одной руке грозную и могучую палицу, прообразом которой была дубина Геркулеса”.
Но реальное воплощение такого откровенного антихудожественного смешения искусств, утверждавшего насилие во имя гармонии человеческого общества, Европа увидит позже. А тогда, в начале XIX века, реальностью становятся триумфальные арки и колонны, воздвигнутые в честь побед императоров в Милане и Фаэнце, Мадриде и Риме, Лондоне и Мюнхене, Марселе и Ганновере, Петербурге и Москве. Одним из первых таких сооружений стала колонна на Вандомской площади в Париже (43,5 м), отлитая из бронзы и увенчанная фигурой Наполеона в тоге римского императора с богиней Нике на ладони. Официально Вандомская колонна называлась “Памятник великой армии”, но прославляла императора.
В Германии идейной основой ампирных сооружений часто оказывалась национальная (германо-скандинавская) мифология, но переосмысленная в националистическом духе. Один из таких монументов был возведен Лео фон Кленце в 1832 – 42 годах в Регенсбурге, получив громкое название — Вальхалла. Король Баварии Людвиг I задумывал его как первый “общегерманский национальный памятник”, посвященный теме объединения Германии после освободительной борьбы с Наполеоном.
На высоком берегу Дуная встал беломраморный греческий храм, точно повторивший размеры и конструкцию Парфенона. От храма к реке эффектно спускалась терраса. Интерьер храма превратился в чертог павших (Вальхаллу), где, согласно мифу, герои оживают, чтобы пировать с воинственными девами — валькириями. Здесь установили 96 мраморных бюстов национальных героев Германии всех времен, статуи крылатой Победы и бесконечные рельефы с батальными сценами и именами погибших.
Довольно длительный путь прошел русский ампир. Эпоха Александра I характерна в этом отношении созданием многочисленных триумфальных мемориалов и значительной перестройкой центров Петербурга и Москвы. Городские площади, бывшие раньше административно-торговыми центрами, теперь получают теперь самое различное назначение, формируя вокруг себя архитектурные ансамбли. А. Н. Воронихин, возводя Казанский собор, создает религиозный центр северной столицы; А. Д. Захаров, значительно перестроил Адмиралтейство — военно-морской центр; Тома де Томон формирует вокруг здания Биржи на стрелке Васильевского острова торговый центр.
Но особенно плодотворно работает в это время в Петербурге К. И. Росси. Здание Сената и Синода, возведенное К. Росси в 1829 – 34 годах, вместе с Исаакиевским собором О. Монферрана и памятником Петру I (“Медный всадник”) Э. М. Фальконе составили ансамбль административного центра Петербурга. Вершиной же гармонического решения в градостроительстве до сих пор является ансамбль петербургского центра искусств — Театральной улицы (ул. Зодчего Росси). Построенный в 1828 – 34 годах, этот удивительно целостный и необычайно точно угаданный в своих пропорциях ансамбль, включает небольшую площадь Ломоносова, открытую к набережной Фонтанки и обстроенную трехэтажными корпусами. Прямую улицу, образованную торжественными административными зданиями; величественное здание Александрийского театра и примыкающую к Невскому проспекту Театральную площадь, ограниченную публичной библиотекой и павильонами Аничкова дворца. Сегодня это единственный в мире сохранившийся ансамбль, полностью построенный одним зодчим в стиле позднего классицизма.
Центром же всей Российской империи стала Дворцовая площадь, замкнутая полукруглым зданием Главного штаба с триумфальной аркой посередине (К. Росси). Поистине имперским символом, объединяющим не только ансамбль площади, но и императорский Петербург, и всю императорскую Россию виделась современникам монументальная Александровская колонна (“Александрийский столп”), возведенный в 1830 – 34 годах по проекту О. Монферрана.
Москва для строительства имперских ансамблей была еще удобнее Петербурга. “Пожар способствовал ей много к украшенью”, — иронизировал А. С. Грибоедов, подразумевая заново сформированные Осином Бове Красную и Театральную площади.
Однако в николаевское время вкусы меняются. Ведь изучение истории — это не только осмысление пройденного пути, но и попытка понять, почему мы такие, а не иные, и вообще, какие мы. Не случайно именно середина XIX века отмечена бурными национальными движениями и осмыслением своей национальной культуры. Это время формирования многих национальных школ в литературе, живописи, музыке, театре.
Но имперские традиции еще сильны и национальные стили часто развиваются в русле видоизмененного ампира. Так в России в 1841 году указом императора Николая I пышный русско-византийский стиль К. А. Тона официально предписан для строительства церквей и общественных зданий. Так что ни Д. Чичагов при возведении здания Московской городской думы, ни В. Шервуд при сооружении исторического музея не столько творили, сколько выполняли указ.
Но наиболее ярко изменения имперского стиля от общеевропейского к национальному стилю отразились в долгом процессе проектирования и строительства Храма Христа Спасителя в Москве.
“В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное в чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да свершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием делам их предков”. Так, немного высокопарно, но зато искренне писалось в манифесте от 25 декабря 1812 года. Любопытно, что в обширном христианском мире существовало тогда множество храмов, посвященных событиям из жизни Христа. Но. как это ни странно, не было ни одного храма, посвященного самому Христу. Московский храм должен был стать первым.
Объявили конкурс проектов. Работ представили множество. Из представленных работ Александр I выбрал проект молодого и тогда никому еще неизвестного петербургского художника Карла-Магнуса Витберга.
Окончив Академию художеств в Петербурге с золотой медалью, Витберг занимался исторической живописью. Царский манифест о создании храма Христа Спасителя так захватил его, что он, не имея никакого архитектурного образования, ринулся в Москву. На два года он буквально заперся в мезонине здания Московского почтамта на Мясницкой улице, где знакомый предоставил ему квартиру. Эти два года Витберг усиленно изучал руководства по архитектуре и, наконец, принялся за составление проекта, о котором вскоре все заговорили. Александр I, увидев проект, сказал: “Вы отгадали мое желание, удовлетворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтоб он был не одна куча камней, как обыкновенные здания, но был бы одушевлен какой-либо религиозной идеею; но я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтоб кто-либо был одушевлен ею. И потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до 20 проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили камни говорить”. Император не только одобрил проект, но и уговорил Витберга принять на себя руководство строительством, чтобы никем не исказился его замысел.
Сам Витберг предполагал строить храм в Кремле. Александр, считая, что “неприлично разрушать древний Кремль” предложил высокое место над слиянием рек Москвы и Яузы. Граф Аракчеев полагал, что строить нужно на высоком берегу реки Москвы на месте Симонова монастыря. Наконец, было выбрано наилучшее место — Воробьевы горы. Проект Витберга поражал своей колоссальностью и потому требовал широкого пространства вокруг. А Воробьевы горы располагались к тому же между Смоленской дорогой, по которой Наполеон пришел в Москву, и Калужской, по которой он ушел.
Храм должен был состоять из трех высоких ярусов. Все три яруса должны были стать отдельными храмами. Предполагалось, что нижний храм, посвященный Рождеству Христову, будет углублен в склон горы. В его катакомбы предполагалось перенести останки убитых в 1812 году воинов. По сторонам Нижнего храма шла колоннада, где решили увековечить историю побед Отечественной войны и манифесты того времени. Оканчиваться колоннады должны были памятниками из пушек, отбитых у Наполеона. Средний храм в виде креста предполагалось посвятить Преображению Господню. Здесь рассказывалась вся история Христа. А Верхний храм, посвященный Воскресению Христову, должен был быть прозрачным, почти воздушным. По мысли автора, такая трехчастная композиция символизировала триединство тела души и духа в человеке. Венчался этот гигантский храм одной исполинской главой и четырьмя меньшими. В колоннадах меньших куполов предполагалось поместить 48 колоколов, точно подобранных по четырем аккордам.
12 октября 1817 года состоялась торжественная закладка храма-памятника. Торжественная процессия во главе с императором шла от самого Кремля. А на всем пути стояли пятьдесят тысяч солдат и офицеров различных полков русской армии. На самой церемонии присутствовало 400 тысяч зрителей — больше всего тогдашнего населения Москвы.
Начались строительные работы. Но вскоре оказалось, что грунт под храмом непрочный и начался перекос только начавшегося сооружения. Строительство прекратили. Создали специальную Комиссию для обследования фундамента, в которую вошли лучшие тогдашние архитекторы. Заключение Комиссия дала неутешительное. Несмотря на то, что было уже израсходовано более четырех миллионов рублей, работы на Воробьевых горах пришлось прекратить и искать другое место для храма. Кроме того, неопытного в денежных делах Вигберга обвинили “в злоупотреблениях и противозаконных действиях в ущерб казне”. Поговаривали также, что проект носит явно масонский характер. Строительство приостановилось до конца царствования Александра I.
Николай I выбрал для строительства храма место в центре города, рядом с Кремлем, где тогда находился Алексеевский монастырь. Автором нового проекта храма стал Константин Андреевич Тон. Архитектор решил связать формы нового храма с формами Успенского и Архангельского соборов Кремля. Однако, насколько со времени строительства кремлевских соборов выросло Российское государство, настолько и пространство нового храма должно было превосходить пространство древнерусских соборов.
И действительно, размеры храма Христа Спасителя поражали воображение: высота 103 метра, площадь 805 кв. метров, диаметр центрального купола 25,5 метра. Храм был рассчитан на 10 тысяч человек. Только подготовка к строительству заняла семь лет. Закладка храма происходила 10 сентября 1839 года. Из кремлевского Успенского собора к будущему храму шел крестный ход с чудотворными иконами Богоматери — Владимирской и Иверской. После закладки весь день продолжался колокольный звон и пушечная пальба.
Строили храм долго и основательно. Фундамент заложили на невиданную тогда глубину — 30 – 40 метров. Штукатурку внутри здания положили не на стену, а на металлическую сетку, отстоявшую от стены — так создавалась циркуляция воздуха, предохранявшая росписи от сырости. Купол закончили только через 10 лет, а большой крест поставили в 1855 году. Еще через 5 лет сняли леса. Почти 20 лет шла внутренняя отделка. Константину Тону помогали возводить храм многие знаменитые архитекторы: Резанов. Каминский, Дмитриев и другие. Стены храма облицевали светлым камнем. Над высокими бронзовыми дверьми известными скульпторами — Клодт, Логановский, Рамазанов. Пименов, Толстой — были высечены 48 горельефов на темы русской и библейской истории.
Все стены в интерьере были покрыты сплошным ковром росписей. В алтаре помещалась картина Г. И. Семирадского “Тайная вечеря”. На куполе — изображение Саваофа работы академика А. Т. Маркова. Картины, изображавшие Вселенские соборы, выполнил В. И. Суриков. Расписывали храм В. В. Верещагин, Ф. А. Бруни, А. Е. Маковский и другие известные художники. Вместо традиционного русского высокого иконостаса в храме находилась небольшая беломраморная восьмигранная часовня, внутри которой установили престол. Полы выложили мозаикой из полированного мрамора и порфира, а все бронзовые украшения сделали по особым рисункам архитектора Л. В. Даля. Даже церковная утварь и облачения священников делались по особому заказу. А перед храмом на площади поставили первые в Москве фонари с электрическими лампами. Сразу после освящения храм Христа Спасителя стал и мемориальным музеем. По периметру всего здания шла двухэтажная сводчатая галерея, где располагалось 177 мраморных досок с именами погибших, раненых и награжденных офицеров. Здесь же были выбиты сведения обо всех значительных битвах Отечественной войны, названия воинских соединений и частей народного ополчения, а также тексты главных военных документов. Там же хранились трофейные знамена и ключи от покоренных городов.
Освящение храма, которое происходило 26 мая 1883 года, приурочили к коронации императора Александра III. Для этого события П. И. Чайковский специально написал торжественную увертюру “1812 год”. Мощный, величественный храм Христа Спасителя, казалось, утвердился в Москве на века.
Но и многочисленные монументы, и парадные портреты, и мебель темного дерева с пышными золочеными накладками, и русско-византийские храмы, словом все, что составляет “ампирное богатство”— это лишь одна из линий развития художественной культуры XIX века. По-гегелевски, отвлеченно-логически человек чаще осознает прошлое. Причем не свое личное прошлое, но прошлое государства, народа, человечества, всей природы. Настоящее же и себя в его потоке он скорее ощущает и проживает, чем осознает. Потому в художественной культуре XIX века, с ее особо острым восприятием истории, неизмеримо возрастает пристальный интерес к личности. Это уже другая сторона единого культурного процесса. И в первой половине XIX века отражением этого интереса в искусстве стал романтизм.
В романтизме сам предмет искусства переместился вглубь человека, в его “Я”, или “дух”, как тогда любили говорить. Весь двухвековой классицизм, не исключая Канта, Гете и Шиллера, был основан на выдвижении отдельных способностей человека. Бурно обсуждались рационалистические или чувственные способности человека в процессе познания мира. Предполагалось, что рассудок, разум, логика, чувство, воображение, фантазия — все это качества человеческого “Я”. Но что такое это человеческое “Я” оставалось загадкой.
Романтизм и явился попыткой проникнуть в саму сущность человеческого. Как и во всех других направлениях здесь тоже были свои увлечения и преувеличения. Внутренний мир человека очень скоро стал трактоваться как основа всего бытия, как творческая стихия, как единственное и подлинное пространство божественного. И искусство предстало как самая совершенная человеческая деятельность. Да и вся человеческая жизнь стала рассматриваться как художественное произведение.
Но ограниченным человеческим “Я” невозможно охватить все мироздание. И возникает постоянное романтическое стремление, неудержимая потребность постигнуть мир в его движении и изменении. Это становление и одновременно разрушение, всякое исчезновение границ хорошо выражено в самом языке романтической музыки с ее преодолением каденций.
В таком вечном стремлении жизнь человека осознается находящейся на границе реальности и ирреальности. Это параллельное существование в нескольких мирах получило название романтического двоемирия. В искусстве это предполагает наличие множества символов, так как ирреальность можно передать только намеком. Вся культура романтизма полна необычайно богатыми и многозначными символами. Так в романтической музыке огромное развитие получает лейтмотив как способ символизации звукового мира.
Но для появления романтизма именно в конце XVIII века была и социально-историческая причина. Романтизм был реакцией интеллигенции на неудавшуюся буржуазную революцию во Франции. Это было разочарование в революции как способе переустройства мира, так как революция сама своей победой зачеркивает те идеалы, к которым стремится.
Романтизм, как и всякое подлинное художественное явление, многолик. Каждая страна, каждая художественная школа добавляет что-то свое в его облик. Йенские романтики (Ф. Шлегель) определили отношение художника к своему произведению как своеобразную романтическую иронию. Романтики старого германского университетского города Гейдельберга вершиной человеческой мудрости и красоты считали народные сказания и тщательно их собирали (братья Гримм). Английские романтики (Шелли, Вордсворт и др.) погружались в мистический мир средневековой Англии. В Америке рождается детективный жанр (Э. По). Архитекторы же, склонные к романтизму, активно использовали готические формы (так называемый “псевдоготический стиль”). С наибольшей полнотой романтизм воплотился в литературе и. особенно, в музыке. Даже традиционный облик романтического художника — это сплав поэта и нта (Э. Т. А. Гофман, В. Ф. Одоевский).
Удивительно, но ампир и романтизм часто перемешаны не только в творчестве одного художника (например, вполне ампирная опера “Жизнь за царя” М. Глинки и его же романтическая опера “Руслан и Людмила”), но и в одном произведении. Так в упоминавшемся проекте К. Витберга много романтического, а в массивной оперной трилогии Р. Вагнера “Кольцо Нибелунга” — имперски-националистического. Сходны эти стили, и в стремлении показать в художественном произведении не столько то, что есть, сколько то, что должно быть. Утопичность и ампира и романтизма необычайна.
Утопии сопровождали человека издавна. Одной из первых утопий считается, например, рассказ Платона об Атлантиде. Но в XIX веке утопии приобрели сугубо общественный характер. Все стали фантазировать на тему общественного идеала, предлагать варианты совершенного общественного устройства. Одним из интереснейших русских утопистов начала века был В. К. Кюхельбекер. В “Европейских письмах” (1820 г.) он описывает путешествие образованного американца по Европе XXVI века. Париж и Лондон исчезли, Рим и Неаполь в развалинах. Критически оцениваются национальные характеры французов, немцев, англичан, итальянцев, испанцев. Зато автор явно благоволит к Азии, Африке и, особенно — к Америке. А в итальянской Калабрии обосновалась идеальное русское поселение во главе со “старшиной” Добровым, живущее идеалами гражданственности, бесклассовости и высокой образованности.
Необычайно “розовой” и благополучной была утопия Ф. В. Булгарина “Правдоподобные небылицы, иди Странствование по свету в двадцать девятом веке” (1824 г.). Основное действие происходит в Восточной Сибири, на берегу Северного Ледовитого океана. И, надо отдать должное прозорливости автора, здесь упоминаются дирижабли и самоходные повозки, парашюты, подводные лодки и подводные плантации; предвидены телевизор, телефон, рентгеновский аппарат, детектор лжи, льный проигрыватель.
Увлечение утопиями к середине века только увеличилось. Их писали В. Одоевский, А. Мицкевич, П. Чаадаев, А. Герцен, В. Белинский, Н. Гоголь, А. Иванов, Ал. Григорьев. В них рисовались перспективы развития православно-самодержавного государства или через них проникали в Россию идеи социализма.
В отличие от утопистов предыдущих веков, художники XIX века пытаются не только мыслить и фантазировать, но и действовать. Подобно Ш. Фурье Н. Огарев приобрел в 1848 году в Симбирской губернии писчебумажную фабрику, намереваясь разумно устроить работу и быт крепостных крестьян. В городах появляется множество небольших “коммун”. Так группа художников во главе с И. Крамским, несогласных с чересчур академическими требованиями Академии художеств, снимает большую квартиру для совместного проживания и творческого труда. Позже из этой группы возникнет “артель передвижников”. М. Мусоргский также устраивает с товарищами общую квартиру (“Могучая кучка”).
В этом прихотливом конгломерате имперского, классицистического, ампирного, романтического и утопического создавались художественные произведения, ставшие символами века. Показательна судьба знаменитой картины К. Брюллова “Последний день Помпеи”. Присланная из Италии в 1833 году эта картина получила небывалый для России общественный резонанс. Она стала первой картиной об историческом прошлом, прямо воспринятой как метафора настоящего. “Мысль ее, — писал Н. В. Гоголь, — совершенно принадлежит вкусу нашего века, который как бы сам, чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чуемые всей массою”.
В том же 1833 году А. С. Пушкин, воплощая общественные катаклизмы своего времени, пишет “Медного всадника”. И в этом же году Н. Львов на стихи В. Жуковского пишет гимн “Боже, царя храни”. В те же 1830-е годы начинает искать намеренно эпохальный сюжет для картины А. Иванов, В начале работы над “Явлением Христа народу” художник сильно увлекся книгой Д. Ф. Штрауса “Жизнь Иисуса”, где евангельская история изложена бытописательно. Потому и первый набросок к картине выглядит не как приход мессии, но как появление Христа среди людей на берегу Иордана. Постепенно, в ходе двадцатилетней работы над картиной, художник увеличивает дистанцию между Иисусом и народом настолько, что в окончательном варианте это пустое пространство берет на себя основную смысловую нагрузку. Отсюда и возникает тема одиночества Христа, находящегося как бы в иной реальности. Переднему плану, где все ясно выписано и четко различимо, где толпятся такие разные люди, ожидая крещения, противопоставлена одинокая фигура в абстрактной пустыне.
Как Христос на картине А. Иванова приближается к народу, так будущее надвигалось на XIX век. Потому такими пронзительными предчувствиями полны полотна И. Крамского (“Христос в пустыне”), Н. Ге (“Тайная вечеря”, “Что есть истина?”, “Голгофа”), И. Репина (“Бурлаки на Волге”), философские пейзажи И. Левитана (“Над вечным покоем”), оперы М. Мусоргского (“Борис Годунов”, “Хованщина”), оперы и симфонии П. Чайковского (“Пиковая дама” , IV и VI симфонии). В других же картинах проступает прощание — уходит старая Россия (В. Суриков “Боярыня Морозова”, “Меньшиков в Березове”).
XIX век — век перелома. Здесь уходящая культура, уходящее мировоззрение тесно переплетены с тем, что идет на смену. Недаром это время называют не только “веком уходящего дворянства”, но и “веком промышленной революции”, в корне изменившей всю систему человеческих ценностей. Потому так пронзительно воспринимал А. Блок в 1919 году недавно ушедший век (“Возмездие”) : Если в начале XIX века единственным средством общения людей на расстоянии была ямщицкая почта, то в конце века уже действовали железные дороги, телеграф и телефон. Мир начала века — это Европа, небольшая часть Ближнего Востока, самый север Африки да половина американского континента. В течение века этот мир стремительно расширяется. К началу XX века уже практически весь земной шар, так или иначе, входит в сферу интересов Европы. Такое бурное расширение обжитого пространства, освоенного с помощью истории времени и открытых средств общения не могли не изменить коренным образом мировоззрение среднего европейца.
Уже с 30-х годов XIX века европейские умы все более занимает учение позитивизма (от лат. positivus — “положительный”). Его создатель, французский мыслитель О. Конт, отвергал всякую философию как “бесполезное умствование”. Наука же, опираясь исключительно на факты, а не на умозаключения, должна отвечать на вопрос “как что-то происходит”, но не в коем случае не соблазняться вопросом “почему”. “Копание в причинах, — считал Конт, — ведет лишь к домыслам и фантазиям”. Особенно же вредным это считалось в общественных науках.
Нехитрый принцип как нельзя лучше отражал мировоззрение социальных низов, активно ищущих в это время свое место в историческом процессе. В искусстве позитивизм способствовал развитию нескольких направлений. Содержательно его взяли за основу художники-реалисты, а технологически его использовали импрессионисты. [/sms]
19 мар 2009, 08:54
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.