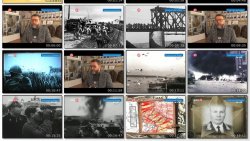М. Шолохов: на Дону
- Вот и опять... лезут на нас. Не дали они нам с тобой мирно пожить... Ты же, Федя, гляди там, не давай им спуску!
Медвежковатый Федя на ходу вытирает черным промасленным платком потеющие ладони, снисходительно, покровительственно улыбается, басит:
- Всю ночь ты меня учила, и все тебе мало. Хватит! Без тебя ученый и свое дело знаю. Ты вот лучше, как приедешь домой, скажи бригадиру нашему, что если они будут такие копны класть, какие мы видали дорогой, возле Гнилого лога, так мы с него шкуру спустим. Так ему и скажи! Понятно?
Женщина пытается еще что-то сказать, но муж досадливо отмахивается от нее, совсем низким, рокочущим баском говорит:
- Да хватит же тебе, уймись, ради бога! Вот придем на площадь, там все одно лучше тебя скажут!
На станичной площади возле трибуны - строгие ряды мобилизованных. Кругом - огромная толпа провожающих. На трибуне - высокий, с могучей грудью, казак Земляков Яков.
- Я - бывший батареец, красный партизан. Прошел всю гражданскую войну. Я вырастил сына. Он теперь, как и я, артиллерист, в рядах Красной Армии. Сражался с белофиннами, был ранен, теперь сражается с немецкими фашистами. Я, как отличный артиллерист-наводчик, не мог вынести предательства фашистов и подал в военкомат заявление, чтобы зачислили меня добровольцем в ряды Красной Армии, в одну часть с сыном, чтобы нам вместе громить фашистскую сволочь, так же как двадцать лет назад громили мы сволочь белогвардейскую! Я хочу идти в бой коммунистом и прошу партийную организацию принять меня в кандидаты партии.
Земликова сменяет молодой казак -Выпряжкин Роман. Он говорит:
Финские белогвардейцы убили моего брата. Я прошу зачислит!, меня добровольцем в ряды Красной Армии и послать на финский фронт, чтобы заступить на место брата и беспощадно отомстить за его смерть!
Старый рабочий Правденко говорит:
У меня два сына в Красной Армии. Один - в авиации, другой - в пехоте. Мой отцовский наказ им: бить врага беспощадно, до полного уничтожения, и в воздухе и на земле. А если понадобится им подспорье, то и я, старик, возьму винтовку в руки и тряхну стариной!
Доцветающая озимая пшеница - густая, сочно-зеленая, высокая - стоит стеной, как молодой камыш. Рожь выше человеческого роста. Сизые литые колосья тяжело клонятся, покачиваются под ветром.
Сторонясь от встречной машины, всадник сворачивает в рожь и тотчас исчезает: не видно лошади, не видно белой рубашки всадника, только околыш казачьей фуражки краснеет над зеленым разливом, словно головка цветущего татарника.
Останавливаем машину. Всадник выезжает на дорогу и, указывая на рожь, говорит:
- Вот она какая раскрасавица уродилась, а тут этот Гитлер, язви его в душу! Зря он лезет. Ох зря!.. Вторые сутки не был дома, угостите закурить - из курева выбился - и расскажите, что слышно с фронта.
Мы рассказываем содержание последних сводок. Разглаживая тронутые сединой белесые усы, он говорит:
- Молодежь наша и то, гляди, как лихо сражается, а что будет, когда покличут на фронт нас - бывалых, какие три войны сломали? Рубить будем до самых узелков, какие им, сукиным сынам, повитухи завязывали! Я же говорю, что зря они лезут!
Казак спешивается, садится на корточки и закуривает, поворачиваясь на ветерспиной, не выпуская из рук повода.
- Как у вас в хуторе? Что поговаривают пожилые казаки насчет войны? - спрашиваем мы.
- Есть одна мысля: управиться с сенокосом и по-хорошему убрать хлеб. Но ежели понадобимся Красной Армии скорее - готовы хоть зараз. Бабы и без нас управятся. Вам же известно, что мы из них загодя и трактористов и комбайнеров понаделали.- Казак лукаво подмигивает, смеется: - Советская власть, она гоже не дремает, ей некогда дремать. Тут, конечно, в степи жнп, затишнее, но ить казаки сроду затишку не искали и ухоро-нов не хотели. А в этой войне пойдем охотой. Великая в народе злость против этого Гитлера. Что ему, тошно жить без войны? И куда он лезет?
Некоторое время наш собеседник молча курит, искоса посматривая на мирно пасущегося коня, потом раздумчиво говорит:
- Прослыхал я в воскресенье про войну, и все во мне повернулось. Ночью никак не могу уснуть, все думаю: в прошлом году черепашка нас одолевала, сейчас Гитлер приступает, все какое-то народу неудовольствие. И опять же думаю: что это есть за Гитлер, за такая вредная насекомая, что он на всех насыкается и всем покою не дает? А потом вспомнил за германскую войну, а мне довелось на ней до конца прослужить, вспомнил про то, как врагов рубил... Восьмерых вот этой рукой пришлось уложить, и все в атаках. - Казак смущенно улыбается, вполголоса говорит:
- Теперь об этом можно вслух сказать: раньше-то все стеснялся... Двух «Георгиев» и три медали заслужил. Не зря же мне их вешали? То-то и оно! И вот лежу ночью, об прошлой войне вспоминаю, и пришло на ум: когда-то давно в газетке читал, что Гитлер будто тоже на войне германской был. И такая горькая досада меня за сердце взяла, что я ажник привстал на кровати и вслух говорю: «Что же он мне тогда из этих восьмерых под руку не попался?! Раз махнуть - и свернулся бы надвое!» А жена спросонок спрашивает: «Ты об ком это горюешь?» - «Об Гитлере, - говорю ей, - будь он трижды проклят! Спи, Настасья, не твоего это ума дело».
Казак тушит в пальцах окурок и, уже садясь в седло, роняет:
- Ну, да он, вражина, своего дождется! - И, помолчав, натягивая поводья, строго обращается ко мне: - Доведется тебе, Александрыч, быть в Москве, передай, что донские казаки всех возрастов к службе готовы. Ну, прощайте. Поспешаю на траво-косный участок гражданам бабам подсоблять!
Через минуту всадник скрывается, и только легкие, плывущие по ветру комочки пыли, сорванные лошадиными копытами с суглинистого склона балки, отмечают его путь.
Вечером на крыльце Моховского сельсовета собралась группа колхозников. Немолодой, со впалыми щеками, колхозник Кузнецов говорит спокойно, и его натруженные огромные руки спокойно лежат на коленях.
- ...Раненый попал я к ним в плен. Чуть поправился - послали на работу. Запрягали нас по восемь человек в плуг. Пахали немецкую землю. Потом отправили на шахты. Норма - восемь тонн угля погрузить, а грузили от силы две. Не выполнишь - бьют. Становят лицом к стене и бьют в затылок так, чтобы лицом стукался об стену. Потом сажали в клетку из колючей проволоки. Клетка низкая, сидеть можно только на корточках. Два часа просидишь, а после этого тебя оттуда кочергой выгребают, сам не выползешь...- Кузнецов оглядывает слушателей тихими глазами, все так же спокойно продолжает: - Поглядите на меня: я сейчас и худой и хворый, а вешу семьдесят килограммов, а у них в плену за все два с половиной года сорок килограммов я не нажил. Вот они к чему меня произвели!
Считанные секунды молчания - и все тот же спокойный голос колхозника Кузнецова:
- Два моих сына сейчас сражаются с немецкими фашистами. Я тоже думаю, что пришла пора пойти поквитаться. Но только, извините, граждане, я их брать в плен не буду. Не могу.
Стоит глубокая, настороженная тишина. Кузнецов, не поднимая глаз, смотрит на свои коричневые вздрагивающие руки, сбавив голос, говорит:
- Я, конечно, извиняюсь, граждане. Но здоровье мое они все до дна выпили... И ежели придется воевать, солдатов ихних я, может быть, и буду брать в плен, а офицеров не могу. Не могу - и все! Самое страшное я перенес там от ихних господ офицеров. Так что тут уж извиняйте...- И встает, большой, худой, с неожиданно посветлевшими и помолодевшими в ненависти глазами.
В колхозе хутора Ващаевского на второй день войны в поле вышли все от мала до велика. Вышли даже те, кто по старости давным-давно был освобожден от работы. На расчистке гумна неподалеку от хутора работали исключительно старики и старухи. Древний, позеленевший от старости дед счищал траву лопатой сидя, широко расставив трясущиеся ноги.
- Что же это ты, дедушка, работаешь сидя?
- Спину сгинать трудно, кормилец, а сидя мне способней. Но когда одна из работавших там же старух сказала: «Шел бы домой, дед, без тебя тут управимся»,-старик поднял на нее младенчески бесцветные глаза, строго ответил:
- У меня три внука на войне бьются, и я им должен хоть чем-нибудь пособлять. А ты молода меня учить. Доживешь до моих лет, тогда и учи. Так-то!
Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к Родине и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет ЖИТЬ вечно, а ненависть пусть поживет до окончательного разгрома врагов.
Великое горе будет тому, кто разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева!
Правда», 1 июля 1941