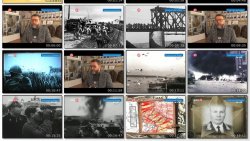К.Симонов: ночь над Белградом
До войны Дуся Желябова работала осветителем в киностудии. В ее власти находилась дуговая лампа, слепящий свет которой она по приказанию оператора направляла то на пол павильона, то на декорации, то на загримированных артистов.
Дуся работала в киностудии лет восемь. При свете ее пятисотки Любовь Орлова бежала за поездом, прижимая к груди черного ребенка; Черкасов, поднимая огромный меч, вел русские полки на ливонцев; Щукин — так похожий в своем гриме на Ленина, что, неожиданно встретив его в коридоре, люди вздрагивали, — говорил речь с построенной в павильоне трибуны.
Дуся знала по имени-отчеству и в лицо всех киноартистов и хранила у себя дома кадры кинопленок из всех картин, на съемках которых светила своей пятисоткой. Потом началась война. Киностудию эвакуировали. Дуся вместе с громоздким имуществом осветительного цеха долго ехала в теплушке все дальше в тыл, в Среднюю Азию. Там, в большом среднеазиатском городе, теплушка остановилась и дальше не пошла.
Киностудия временно разместилась на одной из узких улочек старого города, в маленьких помещениях, никак не предназначенных для киносъемок.
Время было тяжелое. С фронтов одно за другим доходили самые неутешительные известия. Давали свет только на несколько часов по ночам, и то с перерывами, потому что электроэнергия была нужна для эвакуированных сюда военных заводов.
Больших картин не снимали, делали только боевые киносборники, состоявшие каждый из нескольких короткометражек.
Почти никто еще толком не знал, как снимать войну, но все хотели снимать именно войну, и в каждой короткометражке непременно было много выстрелов, беготни и умирающих людей.
Для съемок в городе не было танков, которые ушли на фронт; не было самолетов, которые улетели отсюда; не было немецких касок', обмундирования, оружия, потому что тогда немцев еще очень мало брали в плен. Не было, наконец, саксаула, чтобы топить павильон, и актеры, свободные от съемки, окружали Дусину пятисотку, чтобы хоть немного погреть около нее леденевшие руки.
Почти все осветители-мужчины ушли на фронт. Дуся приходила по утрам в барак, где было общежитие, ложилась на свой топчан прямо в ватнике, штанах и сапогах и, закрыв глаза, мучительно думала. Ей казалось, особенно в дни плохих сводок, что все, что она и другие делают здесь, вовсе не нужно и ни к чему и что настоящее дело только там, на фронте, куда уехало большинство ее товарищей по цеху.
Однажды, весной 1942 года, она пошла в военный комиссариат и записалась добровольцем на фронт.
Когда она пришла прощаться в киностудию, режиссер, с которым она последнее время работала, раньше толстый, а сейчас похудевший наполовину, шумный, часто бранившийся человек, посмотрел на нее грустными глазами и сказал:
— Жалко, жалко.
Но ничего не возразил. Потом он посмотрел на нее еще раз и сказал:
— Я тоже просился на фронт, но мне не разрешили, сказали, что нужней, чтобы я делал вот это.
Он кивнул на угол павильона, где в это время стояла декорация подъезда какого-то дома с иностранной вывеской: в студии снималась картина о подпольной борьбе с немцами в оккупированных странах Западной Европы. Дусе в ее нынешнем настроении съемки этой картины казались особенно ненужными.
«Какая уж там Западная Европа,— подумала она,— когда немцы Харьков взяли».
И, с сожалением последний раз посмотрев на режиссера, она протянула ему руку и попрощалась. Над Белградом стояла тихая темная ночь. Сегодня утром были убиты последние засевшие на чердаках немцы. Бои перекочевали за Дунай и Саву, и в оглушенном семидневным сражением городе стояла небывалая тишина.
Генерал, командовавший стрелковой дивизией, которая брала южную часть города, любил музыку и песни до самозабвения. Когда-то мальчишкой он пел несколько лет на клиросе. Должно быть, любовь к пению возникла у него именно с тех пор. Во всяком случае, каждый человек в дивизии, который имел голос и умел петь, был для него человеком особым, которого он знал по имени, отчеству и фамилии, держал на особом счету, даже берег, поскольку это было возможно здесь, где был не штаб фронта и не штаб армии, а просто-напросто стрелковая дивизия.
Всякими правдами и неправдами генерал устроил у себя в дипинии маленький ансамбль, члены которого по штату числились санитарами, в спокойное время сидели в дивизионном тылу, а в бурное — ничего не поделаешь — в самом деле выносили раненых, как им и было положено.
Белград был взят, и дивизия должна была наутро, не задерживаясь, идти дальше, за Дунай, на север.
Но генералу хотелось чем-то ознаменовать этот день, и, вспомнив о своем ансамбле, он решил в ночь перед наступлением дать концерт в Народном театре — в самом большом из сохранившихся театральных зданий Белграда.
Весть об этой затее быстро распространилась, и к ночи в просторное здание театра наехало гостей даже больше, чем ожидалось.
Приехало много югославских офицеров и партизан. Приехал член Военного совета армии, кто-то из политотдела фронта, двое генералов из танкового корпуса, и несколько корреспондентов, и даже интендантский полковник из главного трофейного управлении, с которым не далее как утром генерал имел такой крупный разговор, что, казалось бы, им лучше никогда в жизни не встречаться.
Ночь была очень темная и очень тихая. Должно быть, поэтому оживление, царившее у подъезда театра, было особенно заметно.
Одна за другой к дому с полным светом подъезжали легковые машины и «виллисы». Перекликались шоферы, шумно хлопали дверцы, и, обшаривая тротуар белыми кругами света от ночных фонарей, ходили взад и вперед автоматчики.
Дуся Желябова вместе с остальными товарищами по ансамблю ходила по сцене за еще закрытым занавесом и примеривалась, где кто будет стоять, куда поставить табуретки для баянистов и как подальше отодвинуть рояль, чтобы он не мешал русской пляске.