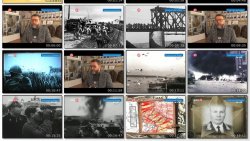Александр Серафимович. Сердца матерей
Серафимович. Сердца матерей
Это было нынешним летом, в звенящей от зноя степи между Доном и Осколом и по ту сторону Дона - на казачьей земле.
Но грейдерам и проселкам грохотали танки. Орудийная канонада обступала со всех сторон. По ночам зарева горящих деревень и городов кровенили небо над степью. Грозные были дни и страшные ночи.
Из тысяч человеческих лиц, промелькнувших перед глазами в эти дни, запомнились мне на всю жизнь лица трех русских матерей.
Над глубокой лощиной, за Валуйками, стоит тихая русская деревенька. Там сейчас немцы. Мы въезжали в нее на исходе дня. Деревня плыла на нас сверху, из синей глубины неба, по широким плесам созревающей ржи и голубым заливам цветущих лугов. В темно-зеленой листве садов сквозили белые стены мазанок, розовеющие под лучами ущербного солнца. Еще три дня назад здесь была тишина. Война спугнула тишину. Она рычит близко, совсем рядом, за лесистыми холмами в долине степной реки Оскола.
Возятся в пыли белоголовые ребятишки. Мычат коровы. Пастух щелкает длинным пеньковым кнутом. Все как прежде, и все не так. Под соломенными навесами крыш стоят обожженные зноем старухи. Поднося к глазам ладони почерневших в труде рук, они тревожно, пристально смотрят на юг и вслушиваются. Они смотрят на проходящих кросноармейцев молча и строго. В их глазах застыл немой вопрос: неужели «он» придет?
В хате, где нам пришлось заночевать, жили две женщины. Старшая - хозяйка хаты - здесь выросла, здесь прожила свою жизнь, кружась по маленькому дворику от хатки к хлеву, от хлева и огород и сад. В каком-то бестолковом оцепенении она и сейчас ('пуст по двору, спрашивая десятый раз, оставлять ли на ночь буренку в хлеву или лучше привязать в саду под яблоней.
Другая женщина - молодая, городская. Когда мы входили во дворик, она стояла у притолоки, с недоумением и жалостью наблюдая за своей суетливой золовкой. Она держала на руках двухлетнюю девочку. Ребенок протянул ко мне худенькие ручонки и, светло улыбнувшись синими, как полевые васильки, глазами, залепетал:
- Папа... папа...
Мать вздрогнула и спрятала лицо в плечико дочки. Потом, овладев собой, глянула мне в глаза прямым взглядом сухих, глубоких глаз:
- Смешная у меня дочка. Как военного увидит, так и тянется к нему, папой называет. Отец у нее тоже военный был. Совсем маленькую оставил в прошлом году, а вот запомнила...
Я взял девочку на руки. Она доверчиво обняла мою шею слабыми ручонками и, ласкаясь, стала лепетать что-то, понятное только матери. Тельце ребенка было почти невесомо. Реденькие русые волосики завивались несмелыми кудряшками над висками, исчерченными синими веточками вен. Ножки, пораженные рахитом, были кривы и тонки. Все маленькое тельце льнуло к большому человеческому телу, как льнет к теплой стене хаты плющ, обожженный морозом.
- Она у меня осадница. Прошлую зиму мы с ней в Ленинграде высидели. Не чаяли выжить. Я ее своим телом грела. Спать отвыкла: все боялась, как бы во сне не задушить. Выжила моя сиротка... Да, видно, на горе выжила...