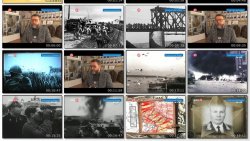В. Видрашку: Таежное эхо
Полночь. Тишина. Еле слышится легкий шум ветра в кронах кедров. От тишины ей страшно. Все время страшно. Никто не идет, чтобы вырвать ее из этой тяжелой тишины. Вот скоро вернется дочь. Тогда ей не будет так страшно. Страх отступит, отойдет куда-то за кедры, за лес. «Ты опять опоздала, доченька... Ну что ж, придешь, ведь ты такая хорошая, ты не можешь оставить мать одну в этой темноте, правда?»
Темнота сгущается, не слышно больше дуновения ветра — и он скрылся, чтобы не тревожить ночной покой зеленой хвои. А мать все тревожится: где дочь? Почему не приходит? Тревожно бьется материнское сердце, из глубины постаревшей памяти доносятся звуки шагов, легоньких, едва уловимых. «Вот идет! Шагай осторожно, доченька моя, смотри: темно, не оступись... Не надо стучать, мать откроет, ведь знаешь, что открою, не стучи...»
...Зачем стучать? Эта дверь никогда не закрывается. На столе малым пламенем горит ночник. Много лет подряд ночами освещает он своим слабым и тусклым светом эту небольшую уютную комнату, мать не гасит его: когда зайдет дочь, пусть не ударит ей в глаза резкий свет сильной лампы. Ночник не обидит ее.
На комоде стоит начатый портрет. В такую же летнюю ночь, когда мать дошивала белый фартук, дочь спросила: «Мама, а почему нет у тебя ни одного портрета, даже карточки маленькой нет?» Она тогда посмотрела на стену под зеркалом. Да, действительно, среди пожелтевших от времени глянцевых карточек со знакомыми и дорогими лицами только ее фотографии нет: некогда было сниматься.
Даже с мужем не фотографировалась. И его фотография сиротливо стоит под стеклом. Послал он ее оттуда, из-под Хасана. Только она и пришла, эта фотография.Одна. А он не пришел. А вдруг и она, мать, уйдет туда же, откуда никто не возвращается, и не оставит своего лица даже вот так, под стеклом, как отец? Может быть, дочь подумала об этом, когда сказала:
Давай, мамочка, я нарисую тебя! И стала рисовать. На большой белой бумаге. Карандашом. Смотрит мать, и не верится ей: появляются из-под карандаша полосы, расчесанные на прямой пробор, лоб, широкий, с тремя складками, точно такой, каким она видит его в зеркале, потом глаза — чуть-чуть грустные, нос прямой. Только губы не дорисовала — не успела. Но придет и дорисует. «Правда, дорисуешь, доченька, правда ведь?»
Расшумелся ветер перед рассветом. Ветка березы прикоснулась листьями к окну, и девичьи пальцы легко постучали по стеклу. «Пришла моя деточка, пришла... Сейчас открою».
Открываются сомкнувшиеся от усталости веки, убегает вспугнутый сон. Шумит ветер, береза шевелит своими ветвями. Но нет дочери. И на этот раз не пришла. А ведь стучала в окно. Только она могла так легко, осторожно стучать, чтобы не разбудить мать внезапно.
Как легкая дымка опускается рассвет, невидимо подкравшись, съедает темноту. Мать ждет у крыльца: не может быть, чтобы она ослышалась. Смотрит за угол дома. Нет ее. Смотрит на траву — не оставила ли она следы свои в росе. Нет. Роса лежит нетронутая.
Рассвет расшевелил деревню. Запахло дымом: хозяйки готовят завтрак — кто отправляет мужа в поле, кто — сына. А большинство готовят завтрак только для себя: мужей и сыновей взяла война.
Собирается на работу и мать. Она осторожно берет котомочку, смотрит на кровать дочери: пусть останется незастеленной, придет — будет отдыхать, ведь догадается прилечь немножко, и кушать оставила ей в печи, чтобы горячее было.
Закрылась дверь, звякнула щеколда, и ключ улегся на обна-личник над дверью. Дочь знает, что он там всегда, в условленном месте, поднимется на цыпочки и достанет...
Небосвод замер в ожидании. Ни звезд, ни луны, ни облачка — сплошной светло-синий купол. Вот он незаметно темнеет, и мать видит бесконечное число звезд — малых и огромных, желтых и красноватых, мерцающих и неподвижных. Некоторые близкие, дотянись — и вот-вот рукой коснешься, а другие далекие, еле глаз до них достает.
«А может быть, дочь вон там, среди тех звезд? Деточка, моя девонька!» — мысленно вскрикивает она. Глаза открываются: небосвод посветлел, а на востоке стал серебряный. Впереди необозримое, как небо, тянется колышущееся море желтой пшеницы, волны которой подхватывают усталую, всю ночь прождавшую мать.