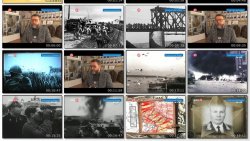На Южном фланге. Военный рассказ
На Южном фланге
Сразу же после еды старшина Пушкарев увел Охватова, Урусова и Глушкова в охранение. Зарылись они в снег за земляным валком, отделявшим сад и огород крайней усадьбы от поля. Снежные ямки грели плохо, и тогда бойцы, нарушая старшинский наказ, легли рядом.
- Теплей как-то, - сказал Глушков.
- Одной гранаты на всех хватит,- отозвался Урусов и зашептал на ухо Николаю Охватову с ребячьей радостью: - Не чуешь, чем пахнет? А ты понюхай. Полынкой. Родимая травка. У меня мать травница была. Каких трав, бывало, не наберет! А полынь крепче всех пахнет. Мать знала, когда рвать ее. Как только прокукует первая кукушка, так и рвать. А потом уж не тот дух. И раньше не тот. А не знаешь, так всегда одинаково пахнет. Ты,- Урусов толкнул Глушкова локтем,- что засопел? Уснешь и околеешь к чертям. Да и кто глядеть за тебя обязан?
- Гляжу, гляжу, - сонно отозвался Глушков и опять засопел.
- Хорошие вы ребята,- вздохнул Урусов.- Вы еще даже и не знаете, какие вы ребята.
Глушков приподнялся на локте, полыценно всхохотнул:
Урусов, ведь точно просить чего-нибудь будешь, коли впялен хвалить нас.
- Болтушка ты, Глушков. Ну чего у тебя просить? Ну скажи, скажи?
- Черт тебя угадает, чего ты попросишь.
- А что, в самом деле, Урусов, ты хвалишь нас? - заинтересовался и Охватов.
- А вот тебя взять, Охватов. Ой, хорошо я тебя помню. Тихонький, трусоватенький был. Цыпленок - только что не чирикал.
- А дальше?
- На Шорье мне, ребята, шибко жалко было вас. Прямо вот жалко, и все.
- Жалеть жалел, а нет чтоб пайкой поделиться с бедным Глушковым.- Довольный своей шуткой, Глушков засмеялся и смутил Урусова.
- Хорошая у тебя голова, Глушков, да дураку досталась.
- Давай, того, без разговорчиков,- предупредил Охватов и, помолчав немного, не вытерпел сам, спросил: -А чем мы все-таки понравились тебе?
- Хм. Уж больно вы, ребята, спокойны. Аж прямо завидно мне. Ведь лежим-то где? На виду у смерти. Может, вон из того сумета дуло тебе в лоб прицелено. Раз - и нету тебя на котловом довольствии. А Глушков, ровно дома, на печке, лег и захрапел. Ни горюшка, ни печали. Вот я и говорю, нервы у вас крепкие. А человек, он весь из нервов. Сдали нервы - заживо пропал.
- Насчет нервов я необразован и не скажу; но дрыхнуть, Урусов, и ты здоров.- Глушков перевернулся на другой бок и пожаловался: - Холодит со всех сторон - попробуй усни. Руки хоть в тепле - и на том спасибо.
Долго молчали, вглядываясь в широкое заснеженное поле. Из низины поднимались беловатые сумерки и уже размыли грань поля и неба, которая еще просматривалась, когда бойцы легли в охранение. Там, откуда шла ночь, постукивало по-вечернему мягко и тихонько. И под этот обманчивый стук чудилось Урусову: копятся немцы в мутном мраке и, как только наступит темнота, бросятся на деревню и сомнут всех ее защитников. «Вовремя бы обнаружить их, чтоб столкнуть в овраг, а там артиллеристы пусть добивают», - размышлял Урусов, и то, что он имел свой план ночного боя, успокаивало его.
Глушков думал о своем: скорей бы стемнело, чтоб можно было вскочить на ноги и попрыгать, потоптаться - иначе околеет он, не доживет и до середины ночи.
Охватову повезло: старшина одному ему из молодых дал полушубок, потому что у охватовской шинели совсем оторвался рукав. Теперь боец лежал в теплом полушубке и вспоминал о доме. Армейская жизнь, тяжелая, угловатая, так крепко впеча-
талась в его душу, что все довоенное ушло куда-то далеко, выцвело, уменьшилось, и от воспоминаний о нем не было прежней острой боли. «Еще на Шорье мыслишку нянчил, что вернут домой,- снисходительно подумал о себе Охватов и ухмыльнулся в пушистый, пахнущий ветром воротник. Салага был, с умом маломеркой...»
Потом он началподсчитывать, когда примерно должна родить Шура, и выходило месяца черен трисо днями, вспомнил еще: на какой-то станции, уже ненадолго до выгрузки, таскали патроны к своему эшелону, Делалось все второпях, бегом. Нагнетая нервозность, на путях как то нездорово и заходно ревели паровозы. Черное Осеннее небо кроили и полосовали прожекторы. Бойцы устали не столь от работы, сколько от суеты, и долго качались на новых ребристых ящиках, не разговаривая и не ложась спать.
Нот в ату ночь Охватов впервые подумал о том, что у его ребенка будет другая, материнская фамилия. Он так расстроился, что не спал весь остаток ночи, а утром, чуть развиднелось, буквами как ветхий огородишко, - вагон мотало из стороны в сторону, - нацарапал Шуре письмо, но так и истаскал его в кармане, потому что письма никто не собирал. Вернулись к Охватову мысли о ребенке уж только в госпитале, когда он оклемался и окончательно пришел в себя.
Было ему очень приятно, что не отправил он тогда то письмо, которое скорее походило на завещание. В госпитале Охватов окреп и телом и душевно, письма матери писал с легкой хвастливостью, зная, что мать пойдет с ними к своим подружкам и соседкам, а Шуру все просил беречь себя и сына назвать Гришкой. В последнем письме, однако, не удержался и написал: «Снова еду на фронт, дорогая Шура, но теперь нет у меня того неизвестного, что пугало первый раз. Но всякое может случиться. Если и угробят, то у меня останется сын, которого я уже люблю, как и тебя...»
И вот, лежа в снегу, Охватов сортировал в памяти далекое и близкое и все принимал к самому сердцу. Угнетало только одно, что в госпитале его не застали ни Шурины, ни материны письма. Дважды его переталкивали из госпиталя в госпиталь - так и вылечился без постоянного адреса. На последний адрес ждал писем день и ночь, и пришли, наверно, может, в тот же день пришли, когда его выписали. Сейчас, поди, лежат на столе у отделенной сестры. Там всегда стопка писем, не заставших своих адресатов. Сестры меняются, а письма лежат.
Глушков, согнувшись в три погибели, отоптал в снегу под обломанными яблонями маленький глухариный толчок и плясал на нем вприсядку, выкидывая ноги, сучил локтями, чтобы согреться. Но крепчавший мороз наседал, давил, густо опушил поднятый воротник его шинели и мех шапки. Запыхавшись, Глушков припадал в своей ямке и начинал слушать хрупкую, морозную тишину, справа, где-то очень неблизко, постукивало - стукает и молчит, стукает и опять молчит.
В одну из таких пауз бойцу почудилось, что на кромке сада, ближе к оврагу, кто-то ость. Все время там никого не было, а теперь кто-то появился и что-то делает, боясь выдать себя. Глушков прибрал винтовку под руку, снял с предохранителя, и стывшее все время лицо его вдруг окатило жаркой кровью. В густой изморози ничего нельзя было увидеть и не слышалось никаких определенных звуков, и все-таки у оврага кто-то был, и в этом Глушков не сомневался. «Разведка, точно, - предположил он.- И деревню как-то прошли. А может, только здесь поднялись, из оврага...» Он пополз к своим, и у валка его встретил Урусов настороженным сердитым шипением:
- Тише, тише!
- Да я и так. Разведка, а?
- Кто знает.
- Поднять надо наших! - Он вскинул винтовку к плечу, но Урусов своей лапой придавил ее, и в этот же миг по ту сторону валка зыбкая муть вытолкнула прямо на секрет неясную фигуру человека.
- Пропуск,- не поверив своим глазам и потому с заминкой спросил Охватов,- фигура метнулась, а по гребню валка прошлась автоматная очередь, брызнув в лицо бойцов искристым снегом.
Охватов веером сыпанул из своего пулемета и, посчитав, что завысил, взял другим заходом, пониже. Потом прислушался: у оврага густо перекипали голоса и выстрелы. Оттуда же в мутное небо с натугой поднялись одна за другой две красные, комолые, без лучей, ракеты, и от оврага в сторону деревни покатилась Крутая трескучая волна. Хлопнули легкие мины.