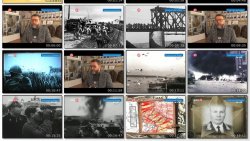Николай Грибачев. День и две ночи
Грибачев. День и две ночи
И сказал Староиванников:
- Безногий душой крыльев не придумает... И еще:
- Многие допили ртом ворон, но не было случая, чтобы кто-нибудь поймал...
В октябре сорок первого в инженерной части, строившей оборонительные рубежи под Тихоновой Пустынью, мне дали командировку в Москву с дополнительным поручением купить патефон с пластинками, несколько настольных часов и керосиновые лампы. Теперь я искренне удивляюсь нелепости этого заказа - до того ли было-то! - но в то время и командировку и заказ принял с легкой душой. На Тихоновой Пустыни поработали немецкие бомбардировщики: на части станционных путей рельсы были скручены взрывами, тяжко чадил горевший элеватор.
Пассажирские поезда не ходили, и я отправился в свою недлинную поездку, не зная, что уже никогда не возвращусь назад, на обычном товарняке, который то, словно угорелый, лязгая и раскачиваясь, летел на всех парах среди роняющих листву перелесков, то - дорогу бомбили - подолгу зря пыхтел на полустанках или на середине перегона. Соответственно и высадился я на станции Москва-Товарная и оттуда по ночным путям и путанице стрелок, так ни разу и не наткнувшись на проверку документов,- тоже удивительное дело! - прибыл в град стольный.
А затем все завертелось и закружилось: командировка кончилась, закупки были произведены, но началось наступление немцев, часть моя исчезла, словно щепка в водовороте, и я безрезультатно, насидевшись предварительно в коридорах, пытался разузнать о ней по военным учреждениям, где самым стереотипным ответом было: «Не до вас!» Два раза доезжал я до Малоярославца, вел расспросы в штабе какой-то армии - связаться помог поэт Сергей Фиксин, работавший в военной газете,- но все было напрасно. Я потерялся, как мальчишка в давке.
И вдобавок меня угнетала тяжелая поклажа - слава богу, что хоть керосиновых ламп не нашлось! - и особенно часы с недельным заводом, которые продавщица, перед тем как завернуть, закрутили па полную катушку. Тик-так, тик-так! - слышал я в узкой И сырой щели перед тем, как рвануть бомбам; тик-так, тик-так! - раздавалось над ухом, когда я прятал голову за пакетом во время пулеметного обстрела. Но, странное дело, когда часы наконец остановились, я вместо облегчения испытал щемящую тоску; молчание их усиливало чувство одиночества и напоминало о том, сколько времени уже прошло зря.
В таком состоянии подавленности сидел я перед вечером хмурого дня на Киевском вокзале, где за неимением другого пристанища обычно и ночевал. Пахло здесь шинельным сукном, оружейным маслом, кожей, табаком. Здание вокзала, похожее на огромную сумеречную пещеру, сбивало голоса, шорох шагов, покашливанье, звяканье металла в один комок глуховатого гула, который не помещался в ушах. Пол шевелился от спящих вповалку солдат, солдаты толпились у газетных киосков и касс, выходили на улицу и входили - казалось, за стенами ворочается серый океан, вкатывающий и отсасывающий одну и ту же волну. Пожилой солдат напротив меня, сняв пилотку и пригладив волосы на лысеющей голове, шевелил черными усами, обнажая два металлических зуба, говорил соседу, молодому парню со сдобными щеками:
- Ка-ак жахнет бомба сюда, а? Месиво будет.
- Чего бомба? - беспокоился молодой.
- Если бы, говорю, кинули.
- Так самолетов-то нет, тревогу не объявляли.
- Нет. Я к примеру.
- Стращаешь, значит...
Слева от них разбитной худенький солдат в расхристанной шинелишке толкал в плечо посапывающего соседа.
- Слушай, пиво дают... Слышь?
- Какое такое пиво?
- Обыкновенное. По кружечке перед дорогой, а?
- Где дают?
- Да тут за уголом.
- Денег нету у меня.
Да есть деньги, слышь? У меня. Ведь когда его, этого Пива, потом и выпьешь. А место? Чего место?
Вопрутся. Соображаешь?
Так мы сидоры оставим и присмотреть попросим. Слышь? Пошли...
Постепенно, убаюканный гулом и голосами, я стал дремать и очнулся оттого, что между мной и соседом мягко, но настойчиво втискивался кто-то в кожаном реглане. Я подвинулся сколько мог, даже не посмотрев, мне было все равно.
Лишь спустя некоторое время в поле моего зрения попала нога, обутая в стоптанный, но с шиком начищенный сапог,- она то осторожно выдвигалась в узкую щель между двумя спящими солдатами, то подгибалась и пряталась.
- И сказал Староиванпиков,- послышался молодой басок,- лучше всего носить свою ногу в кармане соседа, по так как никто этого не разрешает, приходите» аккуратно навертывать портянки. Болит.
- Почему? - машинально спросил я.
- Натер, когда драпал...
Бегство на фронте мне в это время казалось крайне предосудительным, и я с некоторым недоумением посмотрел на моего нового соседа, который гак непринужденно и без нужды признавался в этом. Он был в потертом кожаном реглане, недавно побрит, серые глаза смотрели внимательно и добродушно. Лицо с запавшими щеками, в отходящем загаре, подбородок мягкий, не из волевых, но с мясистыми крыльями, чуть вздернутый. Словом, обличье из тех, что восемьсот на тысячу.
- Хотите сказать, когда отступали? - попытался уточнить я.
- Нет, драпал. Вам еще не приходилось?
- Не приходилось. И далеко вы это самое... драпали?
- Из Вельских лесов.
- Где это?
- Где-то близко от Белоруссии. Бабы кормили похлебкой меня, деды снабжали самосадом. А вы тут поезда ждете или смысл жизни ищете?
- При чем тут смысл жизни?
- Да так... Теперь многие увлекаются - быть, не быть?
- А вы?
- Какой из Васьки принц Датский! Я часть ищу. Потеряла меня и в бюро находок не заявила.
Рассказал: он лейтенант, авиатехник, был оставлен при поврежденном бомбардировщике в этих самых Вельских лесах - караулить, пока не вытащат. Досиделся до прорыва немецких танков, которые расстреляли бомбардировщик вторично, а сам он,
поняв, что попал в окружение, «ширнул по лесам» в течении четырех недель, сторонясь больших дорог, пробирался к своим. Три дня назад заехал в Кубинку, жены нет, дом вверх дном, и щепки по дороге - разбомбили. Выяснилось, однако, что жена жива, уехала. В Москве толку никакого не добился, эвакуации да пертурбации, но один майор сказал, что видел два дня назад какой-то аэродром неподалеку от железной дороги Наро-Фоминск - Малоярославец.
- Махнем вместе, а? - предложил он, когда я, в свою очередь, изложил ему мою одиссею.- Как говорил Староиванников, лучше молчать вдвоем, чем петь одному.
- Что это за древний мудрец такой - Староиванников?
- Он не древний, он комиссар нашей части. Худущий такой майор, но толковый, присловья любит. Вот и пошло. «Как говорил Староиванников». Так махнем? Главное - хоть за что-нибудь зацепиться, тогда и весь клубок легче разматывать.
- Я уже наездился. От свертка на руках кровавые мозоли.
- А что в нем? Я рассказал.
- Сверток придется оставить, - решил он. - Музыки нам теперь и без патефона хватит.
- Казенное имущество.
- Из личных средств возместите. Водятся еще? А нету - потом отработаете. За маневренность в такую пору никакая цена не дорога.
Идея совместной поездки мне понравилась, но я все же решил посоветоваться с комендантом вокзала: нельзя ли сдать сверток под расписку? И делах войны и обстановке я в то время разбирался столько же, сколько щепка в причинах и уровне половодья. Комендант долго смотрел на меня шальными от бессоницы глазами, буркнул:
- Придумаете, веревку с пожара тащить... Положите ваш сверток в коридоре, караулить там некому, но и красть тоже. От нас теперь одна дорога - на фронт!