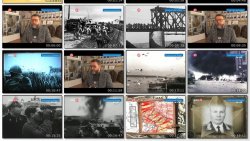Оборона столицы от фашистких захватчиков
Немцы пишут в газетах со злобой и недоумением, что-де «в оборонных работах у русских принимает участие само население». Для немцев это ново и необычно. А между тем с первого дня войны наш труд, как в любые решающие периоды за эти двадцать четыре года, становился общественным не только тем, что население шло на рытье окопов, а по воскресеньям стали возрождаться прежние, первых лет революции «субботники», а и тем, как сами рабочие стали трудиться, не уходя из цехов под бомбежками, не отменяя ночных смен, подняв движение двухсотников (две нормы в день вместо одной) и трехсотников.
На одном из комсомольских воскресников в Москве, 17 августа, мне довелось участвовать. Работы на нем велись необычайные. Большой завод, когда грянула война, был в периоде бурного своего роста; он строился и закладывал котлованы для новых и новых корпусов, здесь соединялись сразу две большие функции - производственная, сосредоточенная в цехах, и строительная, производившаяся на заводской площадке. Рядом с ломом и сырьем для цехов во дворе возвышались груды опасного в пожарном отношении строительного материала. И нужно было на воскреснике усилить производство в цехах, а на площадке разобрать начатую постройку. Кадровики и ученики стали в цеха, а контора, заводоуправление, инженеры пошли во двор.
Казалось бы, что хорошего в разработке,- а люди работали вдохновенно, они как бы укладывали, прятали свой завод от врага, зарывали дерево в землю, обезопасив его от гниения, насыпали и утрамбовывали котлованы, выметали и вычищали мусор. Это была почти личная, почти семейная укладка своего, дорогого сердцу добра, чтобы никакой пожар не повредил, никакая бомбежка не тронула.
Пока на дворе укладывали добро, в цехах горячо и непрерывно создавали вещи. Я зашла в пролет, где работали ученики, и тут увидела среди молодых рабочих высокую, немолодую, строгую на вид женщину в платочке, с лицом такой углубленной сосредоточенности, что захотелось невольно остановиться возле нее. Работала она очень красиво, жест был точный, рассчитанный, пальцы легкие, прикосновения к инструменту смелые и увлекательно-заражающие; видно, что человек находит удовольствие в работе. Я задала ей какой-то вопрос. И вдруг молчаливые губы открылись. Работница сказала:
«Вы не поверите, какое это огромное наслаждение впервые в жизни создавать вещь, реальную, весомую вещь, и знать, что она пойдет в жизнь, послужит на оборону, из моих рук перейдет в другие человеческие руки...»
Пожилая фабзавучница оказалась театральным режиссером с многолетним стажем, только с первых дней войны ставшая к станку. Таких новых людей, с новым острым чувством наслажденья от производственной работы, на заводах появилось очень много. Но в первые месяцы войны мы еще не видели новых черт в нашем труде. Заводской труд, казалось нам, возрос, расширился, налился новым историческим смыслом, но мы еще не умели различать в нем черты принципиального новаторства, созданные самой войной. Только позднее черты эти начали проступать все явственнее и явственнее. Я попытаюсь обобщить эти черты.
В годы пятилеток мы энергично боролись за выполнение программы. Но бывали случаи, когда программа перевыполнялась, а стране все-таки недодавалась продукция. Происходило это оттого, что исчисление сданного (в тоннах, процентах, рублях и т. д.) оставляло всякие щели для обхода и завод, в погоне за выполнением программы, иной раз соблазнялся этими щелями и вступал на скользкий путь формализма.
К примеру, выдать десять тонн крупных деталей в несколько раз легче, нежели изготовить столько же тонн мелких, сложных, до зарезу нужных стране, - хотя в процентах выпуска это одно и то же. Вот и бывало подчас, что одних деталей накапливался излишек, а других образовывались нехватки. Металлургия выдавала болванки с огромными припусками (тяжелее чем надо весом) и осложняла, замедляла работу механических заводов. Словом, получалась та Пестрая картина, при которой сборка и выпуск последнего цельного продукта, готовой вещи, замедлялись и затруднялись. А стране нужны были не проценты перевыполнения, а сама вещь.
Война с первых же дней резко ударила по всяческому формализму. Фронту нет никакого дела до сверкающих цифр и трехзначных процентов, ему подавай весомые, осязаемые, готовые вещи: танки, минометы, пушки, истребители, - и чтоб эти вещи приходили потоком, без перебоя, и чтоб работали они хорошо, без сюрпризов.
В цехах отцы, братья, товарищи получают фронтовые письма, делятся ими с соседями, пишут сами, всем коллективом, цехи переживают войну конкретно, целостно, образно.
И практически это жизненное ощущение войны вылилось в совершенно новое чувство детали: перед цехом, пролетом, бригадой, перед каждым рабочим местом отдельная операция встала в образе той цельной вещи, которую производит не один цех, а весь завод, может быть даже несколько заводов. Раньше стахановец знал и формировал только одну свою деталь.
А сейчас, если вы походите по цеху, приглядитесь к рабочему месту, вы увидите, что каждая отдельная операция, каждая деталь связалась в представлении рабочего с тем нужным, готовым, собранным продуктом, которого требует от него фронт, ждут бойцы на полях. И он начинает форсировать в работе не одну только свою деталь, а и все производство в целом, он все больше вмешивается в технологию.
Война поощрила соединение основной и подсобной работы, умение помочь себе и найтись, когда это экономит время и рабочие руки, умножает технический опыт. Война потребовала совмещения профессий, она как бы выжала из людей тот добавочный опыт, накопленный жизнью, о каком иной раз и сам человек в себе не знает или не придает ему значения.
До сих пор производства знали художественную самодеятельность: бухгалтер играет на флейте, табельщик декламирует Маяковского. А сейчас появилась самодеятельность техническая. На скоростных стройках мы видим, как художник оказывается замечательным плотником, машинистка становится слесарем, токарь лезет на крышу и орудует, как первоклассный кровельщик.
Что это такое, как не тяга к созданию целой вещи? Отсюда, из нового чувства детали, из жизненной необходимости давать готовую целостную продукцию, из желания совместительствовать, не терять времени, заменить собой недостающие руки в наших цехах стало легче бороться с простоями, весь производственный процесс сделался яснее обозримым, сигналы с рабочих мест в случае аварий или задержек стали приниматься и учитываться быстрей, рационализаторские предложения возросли, технологические улучшения вышли из папок, а чаще всего и до папок не успевают доходить, так как цеха их подхватывают и осуществляют на ходу.
Вместе с перечисленными чертами расширенного, обобщающего, более культурного и практического подхода к хозяйству война подтянула, сузила, уточнила, дисциплинировала такую важную функцию на заводе, как контроль.
Попробуйте разговориться с рабочими и мастерами, выполнившими какую-нибудь важную оборонную вещь. Они вам непременно расскажут о вызове в кабинет директора, и будет в рассказе и такая фраза: «...а в кабинете сидит военный с ромбами». Это новое лицо в заводском обиходе, оно как-то резко отличается ОТ всех остальных заводских людей, и рабочие чувствуют разницу, оттеняют ее в своем рассказе.
Военный с ромбами обычно молчит, когда другие разговариваю! По он задает четкие вопросы. Он тщательно и кропотливо проверяет вещь. Он понимает функцию вещи. В его лице стахаты видят непривычно для себя близко, ощутимо своего заказчика, потребителя, оценщика.
Военный с ромбами, обойдя и опробовав вещь, как бы расчленяет ее на мельчайшие составные части, прощупывает и провернет каждую в отдельности. И этот экзамен, это одно присутствие как бы снова возвращает и весь цех и каждого отдельного рабочего к прежнему обостренному чувству своей детали, но уже более ответственному. Подумайте только: если одна твоя деталь подведет всю готовую вещь!
И война, поднявшая, воспитывающая, культивирующая в наших рабочих тягу к целой продукции, в то же время при помощи военного контроля усиливает, углубляет в них создание; ответственности за каждую отдельную свою операцию.
Итоги шести месяцев войны для нашей промышленности говорят еще только о начале, о первых ростках этого нового, вызванного колоссальным сдвигом, произведенным войной. Но нашим заводоуправлениям необходимо уже сейчас видеть эти ростки новизны, чтобы научиться использовать их для будущего.
Так оборона Москвы, ставшая делом чести всего Советского государства, всех советских республик, на каждом тыловом участке нашей борьбы с фашизмом дает нам ясней понять все выгоды и преимущества советского строя, самого передового и самого прочного строя в мире.
1941-1942