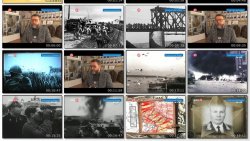Георгий Березко. Крайний срок
К полудню обстановка на рубеже резко осложнилась: немцы на участке соседнего батальона вклинились в оборонительную полосу рабочего полка, и рота Павла, выдвинутая вперед, на левый берег Русалочки, обстреливалась теперь и с фронта, и с фланга. Телефонная связь опять была порвана, связные, посланные командиру полка, не возвращались, и Павел утратил в конце концов ясное представление о том, что происходило рядом. Железное громыхание, свист и скрежет доносились к нему и справа, и слева, и сзади; в тылу роты густо ложились мины; дым, копоть и снежная пыль вихрились, застилая пространство...
И наступил момент, когда общая обстановка становится тем менее понятной, чем более она ухудшается. Немецкие танки действовали уже, по всей вероятности, в тылу роты, в районе железнодорожной станции - оттуда, из-за дымовой завесы, доносился непрерывный звон стеклянных колоколов. Но одно Павел знал твердо: пока он держался на своих прибрежных холмах, неприятельская пехота не могла пройти за реку, чтобы закрепить успех танков. По-видимому, и немцы убедились, что их продвижению мешает прежде всего фланкирующий огонь с высот на левом берегу, - теперь их атаки на эти холмы следовали одна за другой, перемежаясь огневыми налетами...
Вскоре среди бойцов роты пронесся тревожный слух о том, что подразделения, державшие оборону на противоположном, правом, берегу Русалочки, отступили, - санитары, которым посчастливилось переправить туда группу раненых, рассказали, вернувшись, что в окопах за рекой нет больше войск. И услышав об этом, дрогнул даже такой испытанный в суровых обстоятельствах человек, как Щукин, командир первого взвода,- Щукин тотчас же бросился к Громову. Скатившись в воронку, он прокричал над ухом Павла, нервничая и торопясь:
- Павел Алексеевич, товарищ командир! Нам выгоднее на разъезд номер семнадцать отходить... А через эту Русалку чертову правее переберемся, пока есть возможность.
- Выгоднее нам на месте стоять, как приказано было,- без улыбки пошутил Павел.
- Некому скоро стоять будет - во взводе у меня одиннадцать человек под ружьем,-сказал Щукин; наушники шапки, стянутые под подбородком, подпирали его круглые кирпично-красные щеки, что придавало командиру взвода по-детски надутый вид, - вместе со мной одиннадцать...
А на его обиженном лице было в это время ясно написано: «Мы остались здесь одни, и это несправедливо...»
Павел не ответил - он думал о том, что, если даже соседи справа действительно отошли, его задача - сдерживать немецкую пехоту - не изменилась; во всяком случае, кроме его людей, некому было остановить ее здесь.
...Из одиннадцати - двое раненых у меня: Чекин и Свешников,- упрямо продолжал о своем Щукин.- Смех и слезы смотреть, товарищ командир: один заряжает, другой стреляет... В третьем взводе бойцов не больше, чем у меня...
«Мы все до одного ляжем, если тоже не отойдем»,-было за его словами.
Павел, пораженный внезапной мыслью, опять промолчал: судьба всех этих людей - Чекина и Свешникова, Бокова с его сумасшедшей любовью и Охотникова с его юной удалью, пулеметчика Анисимова - шахтера и связного Игнатьева - театрального машиниста, политрука Елисеева и взводного командира Щукина - решалась сейчас, сию минуту. И от того, останутся ли они здесь, на холмах, окруженных врагами, или отступят, как другие, зависело, жить им или умереть...
В самом деле, стоило Павлу сказать два слова: «Приказываю отходить...», и они будут пощажены, а его такая же краткая команда «Стоять на месте...» означала для них гибель. Все существо Павла - доброе и привязчивое - напряглось в это мгновение. И он физически - кровь прихлынула к его сердцу, оно глухо застучало - почувствовал тяжесть бремени командирского, единоличного, окончательного, неумолимого решения... Думать о себе самом у Павла не было уже ни времени, ни душевных сил. Придвинувшись к Щукину вплотную, он сказал сдавленным голосом:
- Одними танками сволочи ничего не сделают... А пехота их не пройдет, пока мы стреляем...
Щукин, взметнув длинными ресницами, жалобно взглянул на Павла.
- Боезапас у меня на исходе... По полсотне патронов на стрелка не наберется,- со страстной тоской возразил он.
И в том, как это было сказано, Павлу послышалось:
«Почему все-таки мы, а не другие? Почему мы? Несправедливо, товарищ командир!»
- Полсотни патронов - большое дело... И гранаты у нас есть... Возьми себе, Женя, два ящика...-начал Павел... И, не сдержавшись, охваченный злостью и на Щукина, и на себя, и на обстоятельства, вынуждавшие его к жестокости, выкрикнул ;
А побежишь - застрелю на месте! Учти!
Ему показалось, что это вырвалось не у него, а у кого-то другого... Он вспомнил своего первого командира - строгого чернобрового лейтенанта, от которого сам услышал такую же угрозу.
И ему стало несколько спокойнее, точно лейтенант вернулся в роту и вновь принял командование.
Щукин, изумившись, молча попятился...
Игнатьев, быстро к Анисимову! Цель - номер два с рассеиванием влево...
Только после этого он посмотрел пристально на Охотникова и судорожно вдруг всхлипнул - ему вспомнилась просьба Щукина об отходе. Щукин, у которого в схватке была поцарапана осколком шея, повернулся к нему всем корпусом - казалось, он хотел что то сказать. Но, поймав выражение расширившихся, страдающих, бешеных глаз Павла, отвел свои в сторону...
Клисеон привстал, держа в руках пачку бумаг, взятых у Охотникова: помятые листки писем, комсомольский билет, школьную тетрадку с портретом Пушкина на розовой обложке... Политрук участвовал здесь в бою, стрелял из автомата, шапку свою он потерял, и в его спутанных полуседых волосах застряли земляные крошки. Задыхаясь, он проговорил:
- Все должны знать в полку, все! Эту атаку отбили Боков и Охотников.
- У Коли была противотанковая образца сорокового года,- отозвался Боков, перекладывая из патронной сумки Охотникова к себе в карман патроны.- Он гранату в самую фашистскую свору метнул. В тот момент его и ужалило...
Смуглые щеки Охотникова и лоб лишь слегка посветлели, веки были неплотно сомкнуты, и, казалось, он прислушивался как бы сквозь дремоту к тому, что говорилось о нем.
Павлу захотелось позвать его, разбудить, и, спохватившись, он отвернулся... Солнце стояло уже в пените, и с холодной, небывалой яркостью пылали белые беспредельные поля, возвышенности, рощи, заваленные снегом. Поближе, шагах в двадцати перед окопчиком, где сражались Охотников и Боков, громоздились кучи черного шинельного тряпья, торчали сапоги с надетыми на них войлочными галошами, высовывались головы в пилотках с толстыми бортами, опущенными на уши...
Кто-то из немцев носил очки - целехонькие, в роговой оправе, они валялись там же, на снегу. А еще ближе, на глинистых глыбах, извергнутых на поверхность, тронутых морозом, вспыхивали и лучились радужные, желтые, зеленые, синие негреющие огоньки.
- Фашистов, что наутек кинулись, я из винтовки достал,- продолжал Боков.- Теперь у меня сорок девять их набралось - ни больше ни меньше. Не скажу, чтоб полностью расчелся, сальдо подождем выводить.
Он был удивительно спокоен, точно нечувствителен ко всему, кроме солнечных лучей, бивших в глаза, от них он заслонялся локтем...
- Спасибо, Ваня! Я же знал, что ты...- хрипло крикнул Павел.- Я тебе верил...
В эту минуту он простил Бокову его прегрешение, он восхищался им, вновь его любил. Но тот как будто ничего не услышал, опорожнив патронную сумку убитого товарища, Боков громко сказал:
- Коля на меня не обидится, доволен будет...
Над их головами ударил из блиндажа пулемет Анисимова, затем совсем близко раздался невыносимый стеклянный перс-звон танковых пушек, покрывший все другие звуки. И Павел кинул последний торопливый взгляд на тело Охотникова, распростертое на спекшейся в огне, стальной земле.
Очередная атака немецкой пехоты была предупреждена, и тотчас же новая опасность возникла на другом фланге ротной позиции. Там, со стороны железной дороги, атаковали танки: четыре машины появились из-за разрушенного виадука, стреляя на ходу. Их встретили бойцы второго и третьего взводов, сведенные Павлом в одну группу, которой командовал сержант Синельников. И головная немецкая машина, подожженная горючей смесью, осталась стоять в луже растаявшего снега, а вторая подорвалась на мине; уцелевшие танки повернули назад и ушли с такой же стремительностью, с какой ринулись в атаку. Но Павел потерял здесь еще трех человек: сержанта Синельникова, отделенного командира Ивлева и связного Игнатьева. Он сам отнес своего связного, раненного в грудь навылет, на обратный скат холма, положил у входа в санитарную землянку на истоптанный, испещренный алыми пятнами снег и вернулся на командный пункт...
Бой достиг уже той степени ожесточения, когда ни свои, ни чужие страдания не способны поколебать солдата... И люди, оставаясь все теми же смертными существами, с хрупкой плотью, легко разрушаемой крохотным кусочком металла, как бы пренебрегали этим... Все же Павел понимал, что долго так продолжаться не могло - его рота таяла, слабела, а связи с полком, с соседними подразделениями по-прежнему не было. Неприятель, точно обезумев от потерь, вновь и вновь наносил удары, сам обливаясь кровью, но удваивая усилия. И это становилось похоже на борьбу с фантастическим чудовищем, у которого на месте одной отрубленной головы немедленно вырастали две новые...
Больше всего Павел жаждал теперь прихода ночи - только она, казалось, могла прервать этот бесконечный бой... Но неторопливое время совсем остановилось для него после полудня. И с незапамятной - чудилось ему - поры видел он это голубое, ясное без единого облачка небо над собой и режущий глаза металлический блеск на остриях штыков, белесый пар, валивший от раскаленных - так, что не прикоснуться,- пулеметных стволов, и алый подтаявший снег, будто изрешеченный пролившейся кровью.