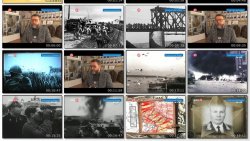Натан Рыбак. Знамя
Натан Рыбак. Знамя
Мы не знаем его имени и не знали его в лицо. Он, должно быть, молод и силен был... Да, был. Потому что теперь его уже нет. Есть только тело, да и то не все. Оно висит на виселице, на Софийской площади, ногами вверх и окровавленной шеей к мостовой. Голову ему отрубили, и оторвали руки, и на груди выжгли звезду, и в пятки набили гвоздей. Его зверски уничтожили, и десятые сутки качает сентябрьский ветер изуродованное тело, а вокруг выстроились в каре мордастые фашистские солдаты.
И когда на киевские улицы ложится ночь, когда ее тревожные сумерки приникают к разбитым окнам и раскроенным бомбами стенам, - он, замученный и трижды расстрелянный, шагает по городу, и пятки его, пробитые гвоздями, сеют смертельный страшный стук. Они выбивают тревогу, и зовут, и звучат от Софийской площади, мимо здания Академии наук, вдоль бульвара Шевченко, вдоль его изломанных танками тополей, по Крещатику и вверх до самого Арсенала. И эхо этих шагов разносится далеко, отзывается в чащах Полесья, в ярах Чигирина и на равнине Каховки блеском топора и винтовочным выстрелом. Там - партизаны. Густое, темно-синее небо Украины, сплошь усыпанное звездами, висит над городом. Большая Медведица склоняется к востоку.
На гранитные ступени набережной набегают волны. Звучат шаги и будят тревогу в сердцах.
Усиленные патрули рыщут от дома к дому. Поблескивают штыки, и гремят выстрелы. Но он не боится штыка, и ему не страшна пуля. Виселицу его стерегут солдаты... Клонит сентябрьский ветер верхушки деревьев, гонит палую листву по мостовой. Над Киевом ночь, зловещая, темная ночь. И ночь полнится эхом шагов. Железо гулко ударяет о камни. Это его шаги.
Идут отряды гестаповцев, ведут на расстрел толпу беззащитных людей - вслед за ними внятно звучат железные шаги. Солдаты чутко прислушиваются, но вскоре успокаиваются. Они убеждены - это ночь наполнена отзвуком их шагов. Дураки! Пусть радуются. Мы хорошо знаем - это его шаги.
Чиновники гестапо шарят в домах, грязными руками залезают в ящики письменных столов, бесстыдно набивают карманы всем, что попадется под руку. И вдруг они вздрагивают - слышится стук шагов, точно стук железа по камням; минутное замешательство, йотом самоуверенная усмешка змеится на губах, они догадываются - это шаги патруля. Но мы хорошо знаем - это его шаги.
Пяты, наполненные сталью, ложатся на мостовую, на лестницы многоэтажных домов, звучат в просторных залах дворцов и театров, отзываются эхом в разбитой снарядом опере, роняют стальной звук и томных переулках, плывут вслед тысячам, ведомым на казнь.
Палачи прислушиваются, они что-то чувствуют своим звериным, ржаным сердцем дикарей, полные ужаса трусы стреляют в людей, в стоны, в ночь. Потом успокаиваются. Но он ведет счет их злодействам.
Он знает все. Его тело, лишенное тепла, ветер раскачивает на виселице. Катит ветер оранжевые листья. Звенит проволока на столбах вдоль площади. Бронзовый гетман, сдерживая борзого коня, указывает булавой путь на восток. На востоке встает солнце. Сменяется караул. У виселицы. У домов. На улицах. Солдаты. Солдаты. Солдаты. И больше никого. Никого.
Плывут над Киевом тучи. Тяжелые осенние тучи. На Глубочице дождь. Серые канаты связали землю с небом. Сплошная дымка дожди окружает мертвый город.
...А он качается на виселице, и на пятки его, с набитыми в них гвоздями, ложатся пожухлые листья тополей.
Одинокие люди, гонимые голодом, как- лунатики, прижимаясь к стенам домов, крадутся вдоль улицы. Они кидают взгляд на виселицу и торопятся дальше, дальше... а в сердце свинцовой пулей гнев, и челюсти сводит боль и горечь. Они знают, чем провинился перед преступниками юноша, и хранят память о нем сердцем, мыслью, еловом. Это он, неведомый никому, молодой, стройный и отважный, в то памятное утро, страшное утро, выстрелил прямо в сердце зверям, это он выстрелом своим толкнул их в бездну...
Ведь в то утро было солнце и был ветер, протяжно выл в пролетах разбитых бомбами кварталов и осыпал пылью срезанные танками тополя на бульваре Шевченко, а когда вдруг вздымался над мостовой, то рвался крылато вверх и всю силу, всю жажду степную свою отдавал знамени на маленькой башенке над зданием универмага, на углу улиц Ленина и Крещатика. Внизу - на мостовой - были фашисты и сеяли смерть, оскверняли город, а в небе во все стороны пламенем пылало и звало к борьбе багряное знамя свободы.
Прижавшиеся к земле хищники не смотрели на небо. Они боялись высоты и, ползая низом, не подымали голов. Но когда
услышали грозный рокот советского самолета, они подняли змеи головы и зашипели от злости, удивления и гнева. Над улицей, над всем городом пламенело на ветру красное знамя, и это было уже на третий день после захвата города.
Тогда офицеры подъехали на машинах к углу улиц Ленина и Крещатика, появились пожарные и, как всегда, танки, а потом пригнали, как стадо овец, испуганных людей, окруженных автоматчиками, и черная лестница поползла с пожарной машины вверх. По лестнице проворно начал подниматься солдат, держа в руках развернутый флаг, на котором змеилась черная свастика.
И вот солдат уже прошел по крыше, взмахнул топором, и, в последний раз вспыхнув огнем, знамя легло на крышу. Солдат нагнулся над башенкой. Снизу на него смотрела толпа.
Краснощекий офицер поблескивал очками и удовлетворенно улыбался. Оркестр ждал его знака. Только те, что стояли в стороне, не смотрели вверх, прижавшись ближе плечом к плечу, в кольце зверей, в сознании обреченности.
И вот солдат уже выпрямился и развернул флаг, и ветер рванул полотнище со знаками смерти, и в ту же минуту пошатнулся солдат и пошатнулся флаг, и оба упали на камни мостовой, в ад, в смерть, с высоты десяти этажей.
Ветер утих. Громоздились тучи. Полынная горечь осени наполнила воздух.
Железными клещами охватили фашисты квартал за кварталом. И его нашли. Он ничего не отрицал. Ему сказали:
- Ты признаешься, или мы расстреляем вместе с тобой две тысячи рабов из этих кварталов.
Очкастый офицер был бледен от злобы, слюна брызгами слетала с ого тонких губ.
Юноша стоял у стены. Простоволосый. В рваной одежде. По его виску текла темная струйка. У него был широкий, ясный лоб.
Неторопливым взглядом впитал он в себя улицу, дома, толпу людей, окруженных солдатами, офицера и на мостовой - размозженное тело немца и фашистский флаг, залитый кровью.
Офицер подступил ближе. За его спиной выросли еще двое. В их глазах прочитал он свою участь. Солнечный луч прорвался сквозь тучи, и юноша поднял, как бы навстречу ему, руку, понимая, что последний раз приветствует солнце.
Я стрелял,- сказал юноша.- Слава тебе, Украина!
И это были его последние слова.
А потом он висел на виселице, на грузовике, облепленном грозными приказами коменданта, его возили по городу, из улицы в улицу, останавливаясь на каждом углу, сгоняя людей смотреть и запоминать, и делать выводы.
И люди смотрели, запоминали, делали выводы. А модернизированная виселица с его телом ползла дальше, вверх по улице Ленина, влево - на Короленковскую, мимо памятника великому Тарасу, вниз по улице Саксаганского, влево на Красноармейскую и опять на Крещатик.
Рычал мотор грузовика. Покачивалась виселица. Шестеро палачей с автоматами а руках стерегли мертвого юношу.
Так он входил а бессмертие, юноша, незнакомый нам по имени, но знакомый своим характером большевика.
1941