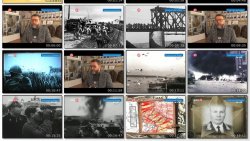Савва Дангулов. Военный рассказ. Поездка на фронт
Поездка на фронт
Тамбиев сидел рядом с Кузнецовым и хорошо видел, как белели маленькие ладони генерала, когда он разжимал кулаки. Генерал виделся Тамбиеву натурой и деятельной, и самостоятельно мыслящей. Генерал, разумеется, понимал, что его рассказ произвел бы невыгодное Впечатление, если бы был рассказом всего лишь о бригаде или даже об армии. Корреспонденты хотели видеть стратегию войны, и их можно было понять. Генерал говорил, учитывая масштабы фронта, больше того, вооруженных сил.
Не потому, что имел на это полномочия, а в силу того, что был первым советским военачальником, с которым встретились корреспонденты в зимней битве под Москвой. Конечно, Кузнецов мог уйти от этого, ограничив рассказ масштабами армии, но этого как раз и не надо было делать. Корреспонденты хотели видеть войну во всей ее беспредельности, они хотели профессионального анализа того, что являл собой фронт, и генерал шел на это. Тамбиева интересовало в генерале другое. А не боится ли он упрека: мол, превысил свои права и затронул вопросы, которые, строго говоря, лежат за пределами полномочий командарма? Наверно, были такие опасения у генерала. Тогда почему он пренебрег этим?
Потому, что имел на это разрешение командования? Возможно, поэтому, но не только. У генерала такого масштаба, как Кузнецов, сегодня была большая самостоятельность, чем вчера. Большая. То, что было невозможно вчера, сегодня определенно было возможно, и генерал уловил это. Точно уловил. Да, правда была здесь.
- Генерал, расскажите о себе,- попросил Галуа.
Кузнецову не очень хотелось говорить о себе, и он ушел от ответа. В штабе армии его ждет командир соединения, которого ему неудобно задерживать, - наступление продолжается...
Тамбиев возвращался в Москву в одной машине со стариком Джерми. Николаю Марковичу показалось, что старик озяб, и он предложил ему место рядом с шофером, но Джерми отказался.
Я не спросил русский дженерал про Пирл-Харбор,- произнес он, кутаясь в старую меховую шубу, которая, видимо, грела все хуже. Он сказал на американский манер «Харбр»,- Америке надо знать Russian opinion...
- Да, конечно, господин Джерми,- произнес Тамбиев.- Америка должна знать, что думают об атом русские военные.
- О да! Для Америки it is very important, очень важно! - откликнулся Джерми и, выпростав руку из варежки, потер одно ухо, потом другое. Он совершил эту процедуру торопливо и, закончив, поспешно сунул руку в варежку.
Колонна ехала сейчас проселком, ведущим к Рогачевскому шоссе. Смеркалось, и снег был мягко-фиолетовым, медленно гаснущим. Где-то в открытом поле, снежно-сверкающем и пустынном, стояла походная кухня, и ее дым, вздуваемый ветром, стлался над снегом. Шофер включил печку - растекалось тепло, домовито»!, припахивающее дымком, казалось, дым походной кухни проник сюда.
- Very important! - повторил Джерми, и Тамбиеву показалось, что он слышит легкий, с посвистом храп американца. Видно, он действительно озяб и стал отогреваться.
Тамбиев любил наблюдать Джерми. Это был высокий седой старик, плечистый и светлоглазый, который не очень-то долюбливал инкоровскую братию и держался особняком даже тогда, когда в силу необходимости должен был, как мог теперь, быть в одной группе с ними. Джерми говорил, что корреспондент ничего не может увидеть, если смотрит «в сто глаз», и по этой причине стремился уединиться.
Разумеется, Грошев тут же приглашал Джерми для разговора. Грошев хмурился, при этом его смуглое лицо становилось белым, он опускал глаза, опускал так, будто виноват был не Джерми, а он, Грошев. «Господин Джерми, как вы можете вести себя так? Ведь мы находимся и десяти километрах от линии фронта! Помните, что вести себя так... опрометчиво!» На этом разговор обычно и заканчивался, на более сильные слова деликатного Трошева не хватало.
- О да! - сказал Джерми и проснулся.-Я спал хорошо! - Он достал из жилетного кармана часы, тщетно пытаясь разглядеть их.- Рашен дженерал знает разницу между Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт?
- Простите, господин Джерми, а к чему вы это говорите?
- Я очень внимательно слушал рашен дженерал, русский генерал.
- Но ведь он же не говорил о Теодоре Рузвельте.
Джерми рассмеялся. Смех был неживой: хо, хо, хо! - Он говорил... секонд франт, второй фронт. Говорил так, как будто в... Уайт хауз. Белый дом, Теодор Рузвельт, там Франклин Рузвельт!
- Я не понял так генерала, господин Джерми.
- Я так понял,- он подвигал пленами - мороз его стал беспокоить вновь. - Ваша дверь - Вашингтон! Вы стучите Лондон! Теперь, теперь - Вашингтон!
- Почему теперь, господин Джерми?
- Я так думаю, теперь! Что такое Пирл-Харбор? Это... американский июнь.
Так вот что хотел сказать пилигрим Джерми, вот что вынашивал он! Он полагает, что проблему второго фронта надо решать с американцами. Они нас лучше поймут. Наверное, лучше понимали и прежде, но сегодня больше, чем вчера. Джерми по-своему прав, теперь!.. Что-то есть в Пирл-Харборе, так думают американцы, от 22 июня: злая воля фашизма, вероломство.
- Господин Джерми, а вы знали Теодора Рузвельта?
Он точно насторожился: пытаясь понять, какое отношений этот вопрос имеет к существу разговора.
- Да, знал.
- Что он был за человек?
Джерми вынимает руку из варежки, трет лицо.
- Американский Черчилль!..
Однако Джерми не растерялся: ему действительно удалось соотнести свой ответ с сутью разговора.
Где-то на перегоне от Рогачева к Дмитрову колонна остановилась, чтобы дать возможность корреспондентам поразмяться - мороз забирался в машины, отнимал дыхание. Тамбиев вышел из машины. Черное, перевитое морозными дымами небо и белое, даже иссиня-белое, будто подсиненная простыня, поле. Безветренно и тихо, так, что слышно, как скрежещет и гремит схваченный морозом лес да далеко-далеко воет то ли волчья, то ли псиная стая...
Тамбиев смотрит, как, притопывая, прихрамывая, приплясывая, корреспонденты сбиваются в кучу. Чем дольше длится стоянка, тем гуще, теснее, нерасторжимее - спасение в нерасторжимости. О чем думают сейчас эти люди? Вот он, свирепый лик русской зимы, свирепый не только для немцев. Когда последний раз была в России вот такая зима? Не в восемьсот ли двенадцатом? Она, русская зима, точно копила силы, точно собирала державную мощь, чтобы вот так грянуть первый раз по французам, потом по немцам.
Тамбиев смотрел на людей, сгрудившихся на зимней дороге. Спи все притопывают да пританцовывают, собираясь теснее. Казалось, задохнешься от этой тесноты, а им холодно...
Russian winter -death, death... Русская зима - смерть, «мери» говорит Джерми, возвращаясь в машину.