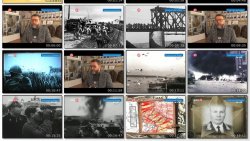Военный рассказ. Дудин. "Война и дипломатия"
Военный рассказ. Дудин
Пайку хлеба нам сократили до шестисот граммов в сутки. Тяжелее всех переносит это Автандил Чхеидзе. Еще в полковой школе по настоянию врача специальным приказом командира полка нашему богатырю была положена двойная норма солдатского пайка. С ней Чхеидзе справлялся как миленький. Если бы посмотрели на него, вы бы сказали, что он может съесть и три нормы. Так оно и было. Дружок Федотов никогда не оставлял в обиде Автандила Чхеидзе.
До сокращения пайка на кухне после обеда всегда оставались излишки. Теперь надо было изыскивать внутренние ресурсы. Дьявол его знает, сколько придется еще торчать на этом «аппендиците». Запасы продовольствия надо беречь на всякий случай. С Большой земли ждать нечего. Вот Добрый вечер и отправляется собирать глушеную рыбу. Не пропадать же ей в самом деле!
Об открытии Добрыйвечера узнал комиссар Щеглов-Щеголихин, и была сформирована по его приказу из выздоравливающих особая команда по ловле глушеной рыбы, а так как финны стреляли беспрерывно и днем и ночью, то Автандилу Чхеидзе не особенно приходилось страдать от недоедания.
Больше всего нам выматывала нервы неопределенность.
Что такое могло случиться с нашими там на Большой земле, что Гитлер прет и прет без задержки, замыкает в кольцо Ленинград, оккупирует Ростов и подходит к Москве?
Письма стали приходить реже и тревожнее.
Я встретил Кольку Бляхмана. На его глазах были слезы: вся семья Бляхманов была расстреляна. Об этом Кольке написала соседка по квартире его родителей, случайно уцелевшая и бежавшая из Киева.
Получил письмо и Кукушкин. Ему писала тетя Поля. Вернее, не тетя Поля, а Танюшка, под диктовку тети Поли.
«Мы слышали о тебе по радио. Держитесь там. Громите этого проклятого Гитлера. А мы уж тут в тылу сделаем все возможное. Из кожи вылезем, а сделаем. С коммунистическим приветом. Целую тебя, милый ты мой, и все девочки мои тебя тоже целуют. Твоя тетя Поля».
Тетя Поля никогда не была членом партии.
И еще мы получили общее письмо от политического управления Краснознаменного Балтийского флота.
«Придет время, - писало политическое управление, - и фашизм будет стерт с лица земли. Но сквозь годы и века никогда не померкнет неувядаемая слава героической борьбы защитников Ханко.
Стойте же, герои, величаво, Вас благословляет вся страна, В золотую книгу вечной славы Мир запишет ваши имена.
Слава героическим защитникам Ханко! Вперед, к Победе!»
И мы стояли не то чтобы величаво, как сказал поэт в этой листовке, а крепко стояли, так что нас не могли сдвинуть с места. Нам больше ничего не оставалось делать. Мы были единственным участком на всем фронте от севера до юга, который где-то в глубоком тылу жил своим законом, оборонялся от врага и даже наступал на него.
Что же касается золотой книги вечной славы, мы не представляли себе, как она выглядит, и не думали о ней, считая, что вечную славу поют только мертвым, а мы еще собирались жить и побывать в Берлине, в этом отношении мы были согласны с Автандилом Чхеидзе, который написал па своей пушке белым по зеленому: «Смерть Гитлеру!»
Наши отношения с финнами стабилизировались. Мы ушли в блиндажи и окопы. Они тоже закопались в землю и огородились проволокой, минными полями и надолбами. Мы обменивались артиллерийскими налетами, и на передок в защитных халатах выползли снайперы. Кто кого - на выдержку.
Меня перевели в гарнизонную газету «Красный Гангут».
Редакция «Красного Гангута» помещалась в шестиэтажном здании Дома флота в самом городе Ханко, разбитом финскими снарядами и бомбами до основания. Фундамент дома был сложен из дикого камня и надежно укрывал и типографию, и редакцию. Рядом с нами в этом же подвале были размещены политотдел базы, особый отдел и отдел по распропагандированию войск противника.
Во время окопной войны сами по себе возникают и узакониваются самые нелепые правила. У нас тоже было одно нелепое правило. Если наши распропагандисты на своем драндулете подъезжали к переднему краю и через усилители начинали зазывать финнов в плен, советовали бросать оружие и перестать губить свои дорогие жизни, финны молчали и слушали. Если же в свою очередь через репродукторы усилительных установок начинали говорить финские ораторы, мы прекращали огонь и слушали их.
Это был неписаный закон окопной войны, и изменить его было нельзя.
Финские ораторы, зная, что им ничего не грозит, обнаглели до того, что на наших глазах стали залезать на самые высокие деревья и вещать оттуда через мегафоны разную свою белиберду.
В «Красном Гангуте» я стал работать вместе с только что приехавшим с Большой земли художником Борисом Ивановичем Иророковым. Добрые глаза, добрая улыбка, мягкий характер и говорок на «о» сразу выдали в нем моего земляка, иванопца, Своей общительностью, простотой, выдумкой он привлекал к себе людей самых разных. В нашей низкой комнатенке, пропах шей крысами и плесенью, всегда толпился народ. Отдел «Гангут смеется», который мы вели с Борисом Ивановичем в газете, стоял у читателей после оперативных сводок на первом месте.
К нам заходили катерники и летчики, подводники и снайперы, саперы и разведчики. Они долгом своим считали сообщить нам самое интересное, что у них произошло.
Забежал в редакцию Кукушкин.
- Сочинитель, - сказал он, обращаясь ко мне, - есть новость! Сижу я вчера на наблюдательном и смотрю. Знаешь эту сосну справа от нашего наблюдательного пункта на финской стороне? Они даже лесенку на нее сделали, чтоб удобнее лазать. И вот вижу, подходит к сосне финский оратор с трубой, залезает на самую верхушку, повертывает трубу в нашу сторону и начинает приглашать нас в плен. Чего-чего он только не обещал: и хлеба четыреста граммов на сутки, и теплое белье, и полную неприкосновенность личности, и даже заграничный паспорт в Швецию. Наши слушают да смеются - дескать, мели Емеля, твоя неделя.
- Так это и я слышал!
- Погоди, сочинитель, слышать-то ты слышал, да не видел, что дальше произошло. Он прямо как глухарь растоковался на своем суку. И вдруг я слышу выстрел, не с нашей стороны, а с финской, и катится этот финский оратор, считая сучки, носом в землю. Финны сами его сняли.
- Здорово! - говорю я.
- Конечно, здорово! - подтверждает Кукушкин.
И Борис Иванович начинает набрасывать рисунок, потом вырезать его на линолеуме, а я сочиняю подпись. Этот материал надо дать в газете завтра.
Глухо воет первый снаряд. Земля вздрагивает. Электричество гаснет, и с потолка начинает сыпаться всякая дрянь за шиворот.
- Началось! - говорит Коля Иващенко и зажигает свечку. Он сидит напротив меня, длинноносый, плоский, как доска, верзила. Ох уж этот Колька Иващенко! Он появился у нас после ранения. Ему очень хочется быть журналистом. Писать он не умеет, но он лазит по всем островам и собирает материал.