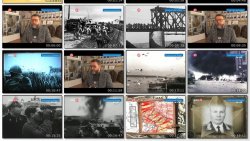Обратная проекция
Понятно, что такое двусмысленное сосуществование современной функциональности и старинного «декора» появляется лишь на известной стадии экономического развития, на стадии промышленного производства и полного хозяйственного освоения окружающей среды. Представителям же менее благополучных социальных слоев (крестьянам, рабочим) и людям «первобытным» нечего делать со стариной, и они стремятся к функциональности. Однако обе тенденции имеют нечто общее.
Когда «дикарь» жадно хватает часы или авторучку просто потому, что это «западная» вещица, мы ощущаем в этом некий комический абсурд: вместо того чтобы понять, для чего служит предмет, человек алчно присваивает его себе - это инфантильное отношение к вещи, фантазм могущества.
У вещи больше нет функции, остается лишь смысловое свойство знака. Но разве не тот же самый механизм импульсивной аккультурации и магической аппроприации влечет «цивилизованных» людей к иконам или деревянным поделкам XVI века? Как «дикарь», так и «цивилизованный» улавливают в форме вещи некое «свойство» - один связывает его с современной техникой, другой со стародавними временами пращуров.
При этом само «свойство» в том и другом случае оказывается различным. «Недоразвитый» нуждается в образе Отца как Могущества (в данном случае - могущества колониальной державы); страдающий ностальгией «цивилизованный» - в образе Отца как рожденности и ценности.
В первом случае это проективный миф, во втором - инволютивный. И будь то миф о могуществе или миф о первоначале, вещь всегда психически нагружается тем, чего недостает человеку: для «недоразвитого» в техническом предмете фетишизируется могущество, для «цивилизованного» человека технической цивилизации в предмете мифологическом фетишизируются рожденность и подлинность.
При всем том фетишизм есть фетишизм: в пределе каждая старинная вещь красива просто потому, что она дожила до наших дней, а тем самым становится знаком некоей прошлой жизни. Тревожно-любознательная тяга к своим корням заставляет ставить рядом с техническими предметами, то есть знаками нашей нынешней власти над миром, предметы мифологические как знаки былого. Ибо нам хочется быть только собой и одновременно быть «чьим-то» - наследовать Отцу, происходить от Отца.
Пожалуй, человек никогда не сумеет сделать выбор между прометеевским проектом переустройства мира, требующим поставить себя на место Отца, и иным проектом - обрести благодать происхождения от некоего первородного существа. О неразрешимости этой дилеммы свидетельствуют сами вещи. Одни из них опосредуют для нас настоящее, другие - прошлое, и последние значимы тем, что знаменуют нехватку.
У старинных вещей есть как бы аристократическая частица при имени, и своим наследственным благородством они компенсируют слишком быстрое старение вещей современных. В прошлом старцы считались прекрасными, так как они «ближе к Богу» и богаче опытом. Нынешняя же техническая цивилизация не признает мудрости стариков, зато преклоняется перед внутренней плотностью старинных вещей: в них одних запечатлен нетленный смысл.